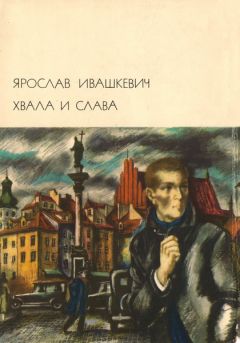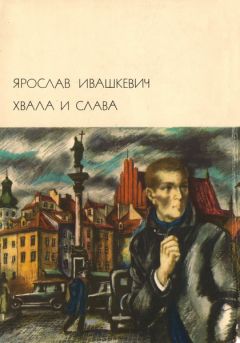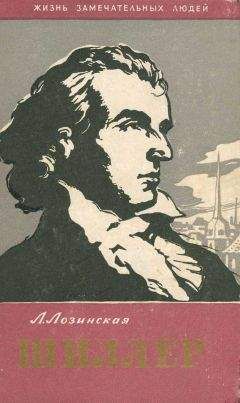Зося поднималась медленно, так как действительно чувствовала себя плохо. Несколько недель назад она выкинула на третьем месяце. И это не только подкосило ее физически, но и сказалось на ее моральном состоянии.
— Несчастье я тебе приношу, Януш. Персики в оранжерее вымерзли, сынок так и не появился на свет…
Януш старался сохранить выдержку, и все же разговоры эти расстраивали его так, что он убегал к своим цветам и оставлял Зосю одну. Вот и сегодня он еле уговорил ее поехать в концерт.
— Все один да один! Это уже выглядит просто неприлично — везде бываю без жены. А на концерте мне надо быть. Эдгар — мой ближайший друг, и даже если бы не был им, я просто хочу послушать его новое сочинение…
— И придется ночевать на Брацкой. Это ужасно!
Зося как огня боялась Марыси Билинской и, что странно, еще больше боялась Теклы. Впрочем, возможно, она имела на это основания: Билинской было абсолютно безразлично, на ком женился ее брат, зато Текла мечтала о таком совершенстве для своего Януша, что Зося, конечно же, казалась ей последним ничтожеством.
— Билинская — та, верно, даже рада, что ее брат женился бог весть на ком, — говаривала она пани Шушкевич. — По крайней мере ей самой теперь меньше глаза колют Спыхалой.
Но пани Шушкевич не соглашалась.
— Oh, madame, — говорила она, — un mariage c'est quand même une chose différente… {3}
И в словах этих явно чувствовался намек на ее собственный брак и на закоснелое девичество Теклы.
Как бы то ни было, Текла строго правила домом на Брацкой, княгине ни в чем не уступала и ужаснейшим образом воспитывала Алека. После женитьбы Януша «бог весть на ком» Текла перенесла всю свою любовь на маленького Алека и страшно его портила. Даже сама Билинская не имела на мальчика такого влияния.
Вот и сегодня Текла никак не хотела пустить Алека на концерт.
— Нечего ему, несмышленышу, на какую-то там вертихвостку смотреть, — упрямо твердила она.
Но мать настояла на своем и взяла Алека в филармонию. Януш с Зосей встретили их у самых дверей зала. Алек превратился в высокого стройного пятнадцатилетнего подростка. Глядя на него, Януш невольно подумал:
«Интересно, и у меня мог бы быть такой?»
— Ну, как ты, Зося? — спросила Билинская, подавая невестке руку. — Как себя чувствуешь?
— Спасибо, отлично, — стараясь держаться независимо, ответила Зося.
Алек, подавая руку тетке, вспыхнул так, что его старательно зачесанный светлый хохол надо лбом показался еще светлее. Мать с укором взглянула на него. От этого голубого холодного взгляда Алек потупился и отвернулся. Зосе стало жаль его, и она решилась взять на себя инициативу в разговоре.
— Дося Вевюрская сказала, что здесь просто освещение неудачное, но мне кажется, я и в самом деле выгляжу очень плохо, — сказала она.
— Дося Вевюрская? Qui est-ce? {4} — спросила Билинская, переводя свой холодный взгляд на Зосю.
— О, ты же не знаешь всех ответвлений рода Вевюрских, — с улыбкой сказал Януш. — В Готтском альманахе их нет.
— Уж в чем, в чем, а в снобизме меня не обвинишь, — ответила Билинская.
Зося перехватила взгляд Алека, с восхищением смотревшего на мать. В длинном платье темно-синего бархата и с нитями жемчуга княгини Анны на шее Билинская выглядела великолепно. Волосы она подсветлила так, что стали незаметны еще недавно проступавшие белые нити. Несколько недель назад Билинская вернулась из Парижа. Зося набралась храбрости:
— Зато ты, Марыся, превосходно выглядишь, — сказала она.
Билинская привычно оттолкнула ее отчужденным взглядом, но тут же улыбнулась — одними губами, — чтобы хоть как-то смягчить холодок, которым, она сама это чувствовала, веяло от нее.
— Мама всегда выглядит очаровательно, — впервые отозвался Алек.
Зося решила пошутить.
— А я? — обратилась она к племяннику.
И тут же пожалела об этом. Алек так покраснел, что даже слезы навернулись ему на глаза. К счастью, раздался звонок и надо было занимать свои места.
Вскоре Януш с Зосей уже сидели на неудобных скрипучих стульях, обитых красным материалом, откуда были видны уродливые фрески над раковиной оркестра. Медленно собирались музыканты.
— Я просто ужасна, — сказала Зося, прижимаясь к плечу Януша, — совсем не умею разговаривать с твоей родней. Всегда скажу что-нибудь невпопад.
— Можешь утешиться, — ответил Януш, — я примерно так же говорю с Марысей. Что бы я ни сказал, всегда кажется, что сказал не то. Так уж повелось. Всегда я с ней чувствовал себя как-то скованно, хотя бы потому, что отец больше любил ее.
— Ты в этом уверен?
— В чем?
— Что отец больше любил ее.
— Я помню его смерть.
И вдруг прямо тут, глядя на собирающихся музыкантов, раскланиваясь со знакомыми, с тем же Губе, который всегда являлся на концерты с каким-то старым евреем, Януш стал рассказывать о болезни и смерти отца и о том, как тот непременно хотел видеть перед смертью Билинскую.
— И как раз в это время она приехала верхом с двумя казаками. Казимеж Спыхала был тогда у нас, он служил в ПОВ …{5}
Зося нагнула голову и искоса взглянула на Януша.
— Странный момент ты выбрал для этих воспоминаний.
Януш прервал рассказ. Он понял, о чем она сейчас подумала. Ведь она-то никогда не говорила ему о смерти Згожельского, а он об этом не спрашивал. Так и оставалась недоговоренность. А Згожельский умер от отчаяния, продав Коморов за бесценок.
— Один из казаков вернул Марысе мешочек с драгоценностями, — досказал все-таки Януш, — и вот на них-то сестра и купила мне Коморов. Вот что я хотел сказать, — поставил он точку над «и».
Зося, прищурившись, смотрела на первого скрипача, который проигрывал какой-то сложный пассаж.
— И тебе не жаль этих драгоценностей? — спросила она.
— Я считаю, что между супругами никогда не должно быть денежных расчетов.
— Я тоже так считаю, — прошептала Зося.
Звуки настраиваемого оркестра, точно глубокий вздох, устремлялись вверх, стараясь пересилить друг друга; там, в своде раковины, скрипки и гобои схватились, как два борца, и вдруг все звуки стихли, будто ножом обрезанные.
Фительберг в белой манишке вышел на сцену и, повернувшись к публике, показал в широкой улыбке свои белые зубы.
Зал разразился аплодисментами.
Профессор Рыневич жил на Польной улице, напротив Политехнического института; он намеренно выбрал это место из-за сына, учившегося на архитектора, чтобы тому было близко ходить в институт. Младший Рыневич успешно продвигался в своей области и был утешением родителей. Зато старику отцу было далековато добираться до университета, где его лекции по биологии собирали не очень-то большое число слушателей.
В день концерта Эльжбеты профессор с утра испытывал какое-то беспокойство и лекции — а было их в этот день только две — вопреки обыкновению прочитал довольно небрежно. В довольно спокойном тоне немного поболтал со слушателями — как раз в это время возникла проблема отдельных скамей для евреев, — немного почитал по своим конспектам и кое-как отбыл эти часы до обеда. Сын обедать не явился, его задержала работа в архитектурной мастерской, а может быть, он отправился куда-то с товарищами. Мадам Рыневич, спокойная, еще красивая женщина, не смогла объяснить мужу, чем занят сын, и в связи с этим ей пришлось выслушать несколько язвительных замечаний. Потом профессор молча съел свой бульон и кусок мяса с горчичным соусом, а когда дело дошло до яблочного компота, попросил жену дать ему сегодняшнюю утреннюю газету — любимую. Мадам Рыневич обратила внимание на то, что он заглянул только на предпоследнюю страницу, в раздел: «Куда пойти сегодня вечером», и тут же отложил газету. Она поняла, что муж хотел узнать, во сколько начинается концерт в филармонии, а так как они много раз ходили на эти концерты и всегда к восьми часам, то она пришла к выводу, что профессор чем-то взволнован. Тихонько вздохнув, она сказала:
— Ешь компот, Феликс.
— Да ведь он, наверно, с корицей!..
— Почему он должен быть с корицей? Я же знаю, что ты не выносишь корицы. Я помню о твоих вкусах, — добавила она многозначительно.
Профессор не заметил этого тона, но компот все-таки съел. Когда после обеда мадам Рыневич подала чай, появился Ежи, улыбающийся, довольный, и прямо с порога стал рассказывать о каком-то товарище, который нелепейшим образом провалился на экзамене. Мадам Рыневич смеялась и все же заметила, что муж поглядывает в окно на тучи и не слушает болтовни сына. На дворе был обычный октябрьский день, тучи стлались низко, но ветер был несильный.
Разумеется, мадам Рыневич поняла, что мысли профессора устремлены к другой осени, хотя то и происходило не осенью. «Сейчас, сейчас, — прикинула она, — когда же это могло быть?» И произнесла вслух: