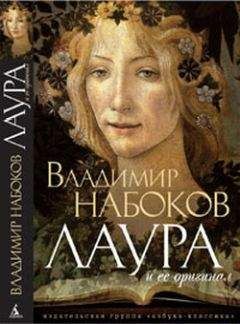«La vie parisienne», но без шляпной картонки.[64]
Честно обменялись именами: «Ivonne. Et toi?»[65] — «Иван».[66]
Такая комната. Видавшее виды зеркало и несвежая, но прилежно выглаженная простыня — все как следует — и рукомойник с волоском и монументальный подмывальник.
Пародия горничной получила за номер да на чай, и, переходя к ней, деньги обращались тоже в подделку, в жетоны домашних игр, в шоколадные монеты. Enfin seuls.[67]
Легкая, маленькая, с блестящей черной головой, прелестные зеленоватые глаза, ямки, грязные ногти — это дикое везенье, это совершенное счастие, не могу, я буду рыдать.
«Ты прав, — сказала она. — Я неряшлива».[68]
И принялась, напевая, мыть руки. Напевая и кланяясь, взяла ассигнацию.
И так хотелось жить, чтоб звука не роняя...[69]
Все-таки осторожно: как писал смуглый подросток, г. Брокгауз, он же пятнадцатилетний Эфрон[70], — на коленях, в углу кабинета.
Перехитрить или все равно?[71]
«Ты молода и будешь молода...»[72]
Замечая, предвидя, уваживая и уважая его нежность, она спросила, снять ли краску с губ?[73] Впрочем, это случилось при втором свидании. В первый раз было не до того.
«Какая же ты хорошенькая!»[74]
Серьезно и вежливо поблагодарила за предисловие, загибая, завертывая книзу, к щиколоткам, паутину чулок.[75] Ее тоненькая спина и мутный курсив, раздираемый чернью, отразились в зеркале.
Невероятность того, что это громадное, плотное, слепое — не знаю, как назвать, — счастье, мука, аллея в далекой юности, — может вместиться в этом маленьком теле. Я сейчас умру. Выжил — но с каким стоном![76]
Пауза. Комментируя деталь происшедшего, она сказала со смешком:
«Ну и смышлен (malin) был тот, кто изобрел этот фокус (ce truc-là)».[77]
Она не спешила одеться, и, слушая ручную музыку, поднимавшуюся с улицы[78], стояла голая между стеклом и вялой, грязной кисейной занавеской, ступня на ступне, сквозя в желто-серой кисее.[79]
Für die Reine alles is<t> Rein.[80]
Между тем, он присел на непочатый край обманутой постели и стал надевать удобные родные башмаки: на левом шнурки не были развязаны.
Когда вышли и расстались, сразу повернула в магазин. Весело: «Je vais m’acheter des bas!»[81] — которое произнесла почти как «бо» — из-за аппетитного предвкушения.
[Второе свидание. Приезжала дважды в неделю из Медона.[82] Отец садовник. Потом условились о третьем. «Я никогда не подкладываю кролика».[83] Но пришлось уехать <—> и больше никогда.][84]
В чем, собственно, дело? Почему он стоял на углу и ждал, надеясь на случай (только то, что в <слово нрзб> и там же — но ведь прошло около года), когда мог условиться о встрече — адрес был записан, он знал его наизусть. И кто она? Девочка в кавычках, средней стоимости, для него, вероятно, с надбавкой, потому что он грустен и пристален, а, главное, явно одержим воображением (которым можно воспользоваться). Но письмо, тупая точность письма, невыносимое усилье отправки, штемпель той вторичной жизни, которая для других — настоящая жизнь, — все это установило бы сознательную связь между вольным волшебством случая и той популярной реальностью. Всякая такая связь нарушила бы и волшебство и свободу — так что мысль о включении случая в строй общепринятой жизни была невыносимо ужасна: повторенное молвой тайное прозванье[85]. Он прозвал жизнь по-своему, и малейшая уступка общему миру обратила бы в очевидную пошлость тайную его собственность.
Волшеб<ство> чистого случая, иначе говоря, его комбинационное начало, было тем признаком, по которому он, изгнанник и заговорщик, узнавал родственный строй явлений, живших в популярном мире заговорщиками и изгнанниками. По законам этого ритма прелесть ее прозрачных стрельчатых глаз, звонких ударений среди воркующей речи, прелесть плеч, локтей и пальцев маленьких ног, шевелящихся и подгибающихся в потемневшем носке подтягиваемого чулка, а, главное, прелесть ее полного незнания своей истинной прелести, было единственно важным, и обращали так называемые реальные подробности ее бытия (трупное уныние той комнаты, процедура платы, ее рассказ о типе, который на той неделе пожелал, чтобы гнилая[86] горничная стояла и смотрела[87]) в беллетристические подробности[88] более или менее ценные, но никак не могущие возбудить то нравственное отвращение, которое они бы возбуждали, попади они обратно в строй общепринятой жизни, породившей их. Безумие нежности, восторг преображения, благодарность блаженному случаю — да, все это и еще то, что в плане сознательном эта игра — ибо игра случая значит <, что> случай играет, как говорят «море играет» или «играет зной», — эта игра служила для него единственным способом злорадно примириться с тем, что называлось грязью жизни, с тем, что волшебно переста<ва>ло быть пыткой, как только начиналась игра. И потому, что он не мог ей написать, и потому, что он не мог забыть ее прелесть, совершенную предупредительность ее равнодушия и совершенное воплощение собственных чувств[89], мощь, как бы осязаемую толщину счастья, его тяжесть, неуклюжее сиротство (по сравнению с ее малостью и простотой) и затем такое его кипучее и полное освобождение[90], — по этим никому не объяснимым причинам и причинам причин он продолжал ходить и ждать ее появления на том углу[91], где он однажды встретил ее.
И самое замечательное (вдруг почувствов<ал>), что и теперь он форсирует случай, вовлекает его в серию, то есть обратно в «реальную» жизнь, что, в сущности, это только меньшая степень того же ограждения и опошления, как если бы он писал ей, устанавливал бы что-то, подписывал как-то письмо и т. д. — и потому если бы она сейчас появилась, то сама попала бы в серию, и он (так далеко ушед в воспоминании и воображении от всего того, что могли бы видеть в ней другие) увидел бы с той трезвой пошлостью, которой отмечены такие «прозревания», «разочарования», «возвращения на землю» (на какую, на вашу, скоты и тени, на эту призрачную бутафорскую «панель большого города»? — Вот это «действительность»? Это общее место — мне место?), которой, да-с, так-с, говорим мы, они отмечены и хорошо отмечены в популярной жизни и популярной литературе, и принужден был бы, как под рукой сапожника складчатая голова щенка, во сто крат более породистого, чем его хозяин, нагнуться к собственной кашке и увидеть в Ивонн[92] шуструю шлюшку[93], досуха высосанную червем-сутенером[94], захватанную немытыми руками пожилых парижан, обработанную мохнатыми ногами торопливых забавников между пятью и шестью часами вечера, с заразой снутри сургучной губы и с тленом в резиновом лоне.
Русская словесность, о русская словесность, ты опять спасаешь меня. Я отвел наважденье лубочной жизни[95] посредством благородной пародии слова. Она будет максимально горькой в книжке[96], если придет, но она не придет. Она[97] не придет не из-за этого «будет», а из-за моего «была». О, русское слово, о соловое слово, о западные[98] импрессионисты!
И мимо столиков железны<х>,
все пьющих рюмочками губ
сок завсегдатаев полезных[99], —
за светлым труп<ом> темный труп.[100]
И мимо палевых бананов[101],
рекламных около живых,
и многоногих барабанов
твоих уборных угловых,
Париж! я ухожу без гнева
с небывшего свиданья[102] в мир,
где дева не ложится слева...[103] —
Разумной рифмы не оказалось при перекличке, и собрание было распущено, а сколько раз он давал себе зарок не соблазняться возможностью случай<ного> сброда образов, когда вдохновенье только рябь[104] на поверхности, а внутри не тем занят, совсем не тем.
Гнев был — и потому, может быть, рифма не вышла. Он возвращался домой и не знал на кого сердиться за то, что она не пришла. На случай, который иначе не был бы случаем? На себя, который иначе не был бы собой? На нее? Но[105]
[...][106]
«Ладно, столько же, но я буду trebovatelney[107]».
«Tout ce que tu veux», — ответила она ловко и спокойно, posément[108].
«Tiens![109] — воскликнула она очень довольная. — Тот же двенадцатый номер!» Гнилая горничиха.[110]