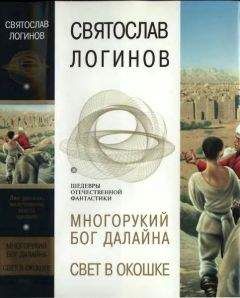– Ни под каким видом! Слышите? Кто здесь хозяин – вы или я? – И наговорил ему еще кучу таких же любезностей.
Больные на койках от души веселились. Даже главное заинтересованное лицо улыбнулось. Инспектор Беллем поджал хвост. Он просто не знал, куда деваться от конфуза.
А доктор все не мог успокоиться:
– Я вас от должности отстраню! Так больше продолжаться не может! Стыд и срам! Стыд и срам!
Когда оба ушли, больные настолько забылись, что даже стали обсуждать это с наседкой. А тот знай свое гнет.
– Я все время думаю, – говорит, – что они сделали с майором Арно!..
Тут в палате все замолчали. Жозеф делал знаки Менару. А Менар – он теперь уже мог приподниматься на постели – сидит с перебинтованными руками и молча головой качает, словно говоря: «Погоди, вот на волю выйдем, он у нас получит, наседка проклятая!» Тут пришли сестры, стали разносить лекарства.
Но, конечно же, так не могло тянуться долго. Скоро отвезут нас, голубчиков, домой, говорит Жозеф, а то на этом курорте путевки больно уж дороги. Жратва, правда, не слишком роскошная, но все-таки капуста и вода горячая, а один раз даже картошку дали! И потом, опять же есть с кем поболтать, палата-то ведь здесь общая, не то что та клетушка на троих, да там и не особенно-то разговоришься: мсье не так воспитан, чтоб с тобой толковать, а другой – он с таким простодушным видом все время интересуется, не знаешь ли ты такого-рассякого майора, да не случалось ли тебе встречаться с таким-то полковником… Ах, дорогая моя! И туалеты здесь не хуже, чем в собственной квартире, с окошком, в которое небо видать. А по дороге в операционную, мне ребята говорили – потому что Жозефу не повезло: в операционную его не возили, – ребята говорили, что там есть окно, так в нем весь город как на ладони… большой город, разделенный рекой, город, о котором днем и ночью мечтаешь, о людях мечтаешь, о домах, о вещах, обо всех делах, которые мы там заваривали, и о тех, что завариваются теперь уже без тебя, хоть по улицам и вышагивают типы в серо-зеленых мундирах, выскакивают из казарм под грохот своих похоронных маршей и ну печатать шаг. Город с людьми, которые остались на воле и в которых живут дерзость, упорство и отвага.
Время от времени вдали раздавались глухие разрывы, и больные привставали на койках и тихо спрашивали друг друга: «Слыхал, как сейчас там рвануло?» Даже надзиратели в дверях один раз… Жозеф собрался уже высказаться на этот счет, но мсье сделал ему большие глаза. И правда! Он совсем забыл про наседку.
Все шло прекрасно. Но как-то утром в больницу нагрянули боши, один в штатском и двое военных; когда военные вытащили свои пушки – а у ворот их ждала машина с шофером, – что тут могли поделать надзиратели и сестры? Они, конечно, потребовали предъявить им ордер за подписью префекта или какую-нибудь другую бумагу, но немцы предъявили им револьвер и сказали:
– Вот наш ордер!
И тот, что был в штатском, произнес: «Гестапо!» – да таким тоном, словно говорил: «Сезам!» – и он только отмахнулся, когда надзиратели стали грозить, что будут звонить в префектуру. Боши велели выдать им троих заключенных и прошли за сестрой прямо в палату, не обращая внимания на протесты.
Ну-ка, пусть одеваются, да поживей! И когда Голье Жозеф – его выкликнули первым – начал собираться, но, по их мнению, делал это недостаточно проворно, один из солдат ткнул его рукояткой пистолета в бок. А Дюпоншеля, наседку, они подбодрили хорошим пинком в зад. Но хуже всего они обошлись с мсье:
– Менар Андре, пошевеливайся!
Он еще не мог стоять на ногах, и раны у него, как известно, еще не закрылись. Но фрицам на все наплевать.
Надо было видеть, как они набросились на него. Живей, живей! Больные возмущенно загалдели на своих койках. Немцы пригрозили им револьверами. Больные, конечно, попритихли. Тот, что из гестапо, велел двум другим подхватить мсье под руки и вытащить его из палаты. Всё – под угрозой оружия.
«Плохо наше дело», – подумал Жозеф. И тут же с усмешкой взглянул на наседку. Бедняга тоже хлебнет лиха: немцы не станут особенно разбираться, кто тут наседка, кто нет. Одна из сестер – Жозеф еще раньше приметил, что она по-доброму относится к заключенным, – вытирала платочком глаза; даже надзиратели были возмущены.
Когда выходили из здания больницы, Жозефа будто ослепило: у подножья холма перед ними раскинулся залитый вольным солнцем город… Он был весь точно серебряный, крыши домов сверкали, светлая извилистая река убегала куда-то, точно дорога. Поодаль дымили заводы, большим зеленым пятном раскинулся парк, а на горизонте вырастали сказочными дворцами высокие белые дома; слышался шум трамвая, улицы были полны народа: только что пробило полдень. Ах, там, на воле… На воле – друзья, и они продолжают борьбу…
Весь в своих мыслях, Жозеф не успел поддержать товарища, и тот споткнулся. Гестаповец выругался по-немецки. И тут, к своему великому изумлению, Жозеф услышал, как наседка тихо шепчет мсье:
– Держитесь, держитесь, майор!
Но осмыслить этот странный факт Жозеф не успел. Их торопливо втолкнули в машину. Старая вместительная колымага с буквами WH на номерном знаке. Они втиснулись в нее вместе с четырьмя бошами. Машина рванула с места, описала дугу перед фасадом больницы. Глянь-ка, да ведь мы направо сворачиваем, значит, не в город едем.
И тогда гестаповец с шумом перевел дыхание: «Уф!» – и, нагнувшись к мсье, сказал:
– Надеюсь, майор, вам не было очень больно?
Что все это значит?
А наседка как захохочет:
– Ну и рожа была у тебя, бедный ты мой Жозеф, когда я спрашивал про майора Арно! Ну как, Морис, мои сведения верными оказались? Поначалу я не был уверен, что он и есть майор… Но потом пришел доктор и сказал мне, что это и правда майор… Замечательный парень, этот доктор!
Человек в штатском подтвердил:
– Да, вам всем нужно его благодарить. Отлично провел операцию… Как только к нему пришел от тебя адвокат… Ах да, чуть не забыл, у меня ведь лежит посылочка для тебя… от твоей жены. А ты чего хмуришься, Голье? Того и гляди заплачешь!
Голье, разумеется, плакать не собирался. Но он скреб задумчиво голову. Морис… Морис… Где я видел этого парня? А майор Арно проговорил:
– Знаете… я им ничего не сказал…
И Жозеф вдруг вспомнил:
– Ну конечно… В тридцать втором году, у прилавка в В. Ты – Пьеро, я узнал тебя!
А Морис ему в ответ:
– Да говорят тебе, что меня Морисом зовут… Вот ведь сколько лет человек в партии, а так тугодумом и остался!
Машина ехала теперь среди полей. Солдат рядом с Жозефом насвистывал «Марсельезу».
– Этого еще не хватало! – вскричал вдруг Морис, изменившись в лице.
И стал ощупывать свои карманы.
– Что такое?
– Трижды идиот! Размазня, ведь я забыл… простить себе не могу!
Все всполошились.
– Да скажи, что случилось!
Но Морис уже снова просветлел.
– Нет! Вот они! Сигареты!