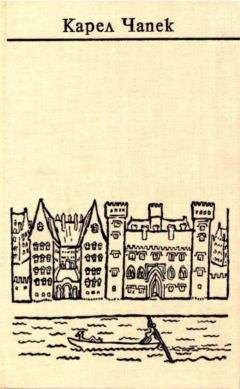Ты же, Римини, ты — тоже не последний среди городов Италии. И если все прочее в тебе немногого стоит, то все же есть у тебя храм Малатесты работы Леона Баттисты Альберти[17]: незаконченный фасад и внутренность, наполовину опошленная барокко, — но то, что осталось от Альберти, стоит дорого; и эти остатки примиряют меня с Возрождением, от которого мне так холодно было в Венеции. История называет Альберти «теоретиком Раннего Ренессанса»; но если вы умеете читать по следам, по памятникам рукотворным, то вы прочитаете по храму Малатесты такое огромное напряжение воли, такую совершенную, благородную строгость и чистоту стиля в каждой скульптурной детали, что будете жалкими Фомами неверными от искусства, если не предпочтете эти великолепные руины лучшим Сансовино[18] и прочим барственным сооружениям блестящего Ренессанса.
Стиль — прежде всего чистота стиля! — и подите прочь со всякой живописностью и пышностью, если вы творите архитектуру. Стиль! — это все, это больше, чем человек: ибо с помощью стиля устремляется человек прямо к абсолюту.
Но вот, пока я так рассуждал о стиле и живописности, судьба покарала меня за поношение последней. Вместительный автоэкипаж с надписью «Римини — Сан-Марино» соблазнил меня съездить в эту, якобы самую маленькую республику в мире. Эти строки я пишу в самом ее сердце. Многие красоты сего почтенного государства ускользнули от меня, ибо по пути шел сильный дождь, клубились туман и тучи; знаю только, что ехали мы круто в гору, все время в гору, прямо в тучи, а теперь я сижу, окруженный облаками, в странном скалистом гнезде, со всех сторон зажатом тучами и дымящимися безднами. Вместо улиц тут сплошь лестницы, на самой вершине отвесного утеса — замок, и каждый дом здесь как бастион на каменистой террасе, а вокруг пропасти неизвестной глубины, в которых курится мгла, — короче, самая дикая, орлиная живописность, какую только можно себе представить.
Пока я в самом фешенебельном отеле республики поглощал бифштекс на растительном масле и козий сыр, сбежалось все Сан-Марино, чтобы поглазеть на меня. Один туземец, инженер, пустился со мной в разговор; в результате титанического единоборства со словами (дело в том, что он единоборствовал с французским языком, а я — с итальянским, причем оба языка оказывали нам бешеное сопротивление), он объяснил мне, что Сан-Марино — действительно независимая республика, что во время войны она поставляла только добровольцев; что население ее насчитывает пять тысяч граждан, которыми спокойно и благодатно правит синьор Гоцци, хотя сам я видел на придорожных тумбах надписи, возглашающие «evviva»[19] совсем иной личности, вероятно лидеру оппозиции. Упомянутый туземец попытался набросать для меня схему сан-маринской истории, но это было уж слишком трудно сделать при помощи рук. Чехов он считал греческим племенем. По причине названных языковых препятствий мне не удалось завязать более тесных международных отношений; пусть кто-нибудь другой продолжит мое дело, только пусть он выберет для этого день, когда не будет лить бесконечный дождь, когда не будет закутан в тучи этот странный скалистый утес, эта отвесная круча, являющаяся одной из самых стабильных европейских республик.
Накануне я писал вам во время дождя, в тучах, сидя в единственном, а следовательно, и лучшем отеле республики Сан-Марино. А утро вдруг понравилось небесам, тучи поднялись этажом выше, и открылась чудеснейшая панорама: море километрах в тридцати, горы, скалы, необозримая цепь гор и скал, и дальше — вся Эмилия; и на каждой горе — крепость, или башня, или человеческое гнездо, теснящееся на клочке величиной с ладонь, а под ногами пропасть, из которой отвесно подымается сан-маринская скала. Снизу она кажется диким, зубчатым гребнем, и еще за Фаэнцей я все оглядывался на нее, а потом уже приехал в Болонью.
Если Падуя — город аркад и галерей, то уж и не знаю, как назвать Болонью. Только каждая аркада здесь высотой с наш трехэтажный дом; портал в центре здания ведет в колонную залу, в которой вполне уместился бы приличный вокзал, а из этой залы через новый портик — выход во двор. Здесь какая-то вакханалия колонн и арок; каждый дом — дворец с колоннадой: целые улицы, чуть ли не весь город — из одних дворцов, и даже в самых бедных кварталах все равно — аркады, ведущие хотя бы в улицы или во дворы, галереи, портики, и все — в тяжеловесном стиле Ренессанс. Это — город парадный и несколько холодный; его слава — не в искусстве, а в учености и в деньгах. Какой-нибудь романский собор или готический замкообразный дворец подесты найдется в любом городе Италии; Болонья, кроме этого, обладает еще двумя падающими башнями, похожими на неудавшиеся четырехгранные заводские трубы.
Во Флоренции же не стану говорить вам об искусстве. Его здесь слишком много, так что голова идет кругом; под конец до того обалдеваешь, что и на тротуарную тумбу, облюбованную собаками, смотришь, воображая, что это — какая-нибудь фреска. Из всего этого неизмеримого половодья бессмертной красоты опять приковывает внимание Джотто и Донателло, Мазаччо[20] и благословенный Фра Анджелико из Сан-Марко[21]. На доме Джотто, магистра Jottus'a, есть мемориальная доска от 1490 года, на которой написано: «Hoc nomen longi carminis instar erat» — «Имя его равно длинной поэме». Да, это правда. И я записал его имя, как поэму, и заранее радуюсь, что встречусь с ним еще раз в Ассизах.
Об остальном можно сказать, что Флоренция до ужаса заражена иностранцами. Местный люд главным образом ездит на велосипедах и меньше, чем в других городах, марает стены надписями: «Viva il fascio»[22]. Что касается фашистов, то их крик звучит: «эйяэйяэйя», а приветствие заменяет этакий взмах руки, до того резкий, что прямо пугаешься. Но, поскольку я, слава богу, не политик, то могу снова вернуться к иностранцам. Больше всего мне жаль тех, которых платный гид гоняет по церквам и музеям. Гид или бормочет свои пояснения по-итальянски, и иностранцы его не понимают, или кричит им в уши какую-то тарабарщину, которую сам он считает французским или английским языком, и тогда они его и подавно не понимают. При всем том он по непостижимой причине всегда страшно спешит, будто дома у него рожает жена; он мчится, сдвинув шляпу на затылок, три четверти всех достопримечательностей пропускает и питает особую склонность к Канове[23].
Другая разновидность иностранцев держится за бедекер, как утопающий за соломинку или как искатели клада — за волшебную палочку. Они неустанно носят его раскрытым перед глазами; и когда они приближаются к какому-нибудь шедевру, бедекер в их руках, вероятно, как-то начинает трепетать, ибо тут они быстро вскидывают голову, бросают мимолетный взгляд на шедевр и потом вполголоса прочитывают, что цитирует бедекер об этом произведении искусства из Кроу и Кавальказеллы[24].
Третья разновидность — молодожены, игнорировать которых я твердо решил еще в Венеции.
Четвертая разновидность — «high-life»[25], которые без конца ездят в автомобилях; куда — я не знаю, потому что всю Флоренцию можно обойти за десять минут.
Пятый род иностранцев — копиисты. Они сидят в Питти или в Уффици и копируют самые пышные картины. Им почему-то не нравится, когда вы бесстыдно начнете рассматривать «их» мастера: видимо, это кажется им посягательством на их частную собственность. Они изготовляют миниатюры с картин Фра Бартоломео[26] и открыточки с Боттичелли[27]. Обладают чудесным талантом перевирать все цвета и до того замасливать свои работы, что они лоснятся, как пончик в сале. В большинстве своем это — пожилые мужчины или безобразные барышни. Бог весть отчего, но ни одна копия и ни одна копиистка не обладали красотой хотя бы в малой степени. Вот сегодня, в Фьезоле, сразу три таких барышни срисовывали амбит монастыря и кипарисы; а в двух шагах от них валялся в траве ребенок со щенком, и было это до того прекрасно, что я и смотреть забыл на задумчивый амбит или на «великолепную ** панораму Флоренции и долины Арно», как выражается бедекер; но три копиистки с важным видом продолжали мазать свои задумчивые амбиты и кипарисы, и ни одна не сняла очки, чтобы взглянуть на ребенка с собачкой или протереть глаза.
Сиена — это такой необычно милый маленький городок, он сидит на трех пригорках и улыбается, все равно — стекает ли по его спине теплый дождик или светит солнце; в нем есть несколько прославленных памятников старины, но он и сам по себе весь целиком — милый старый памятник. Хорошая, степенная кирпичная готика с редкими изюминками Раннего Ренессанса. Это — не насупленная, воинственная готика и не крепостной, гордый, неприступный Ренессанс вроде дворца Строцци. Все здесь как-то интимнее, веселее, пригожее, чем в других местах. В Сиену я поехал, собственно, ради Дуччо ди Буонинсенья[28], сиенского Джотто; но — странное дело — мирный, мягко-монументальный Джотто лучше подошел бы Сиене, чем более натуралистичный и трезвый Дуччо.