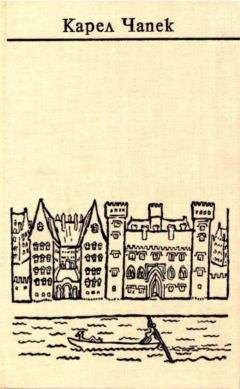Вот и у кошек есть свой бог, во имя которого они поют при луне: отчего же нет его у тебя? Ах, не нашел ты его ни в палящем зное южного Гелия[43], ни в холодной пышности католичества; быть может, он шептал тебе что-то среди чистоты храма Альберти или в сладостном мерцании равеннских церквушек, но ты плохо его понял. Ибо, помимо всего прочего, говорил он не по-чешски.
I
Я не стану писать вам о Везувии или Голубом гроте. Тем более не стану писать о море: порядочный человек не распространяется о красоте своей, пусть и мимолетной, любви. Но, кроме прекрасной природы, главная достопримечательность здесь — коренные неаполитанцы.
У неаполитанцев традиции постарше римского форума. Говорят, еще Гете писал о стадах коз, которые по утрам бегают по улицам Неаполя, чтобы их доили на месте. В половине седьмого утра под моим окном раздается устрашающий рев; высовываюсь из окна — на улице стоит стадо жующих коз (с лицами английских леди), и какой-то молодец доит их, издавая поощрительные вопли. Завидев меня, он выпускает вымя и, протянув ко мне руку, кричит что-то. Выползаешь из дому — и тут, прямо на парадной улице Виа-Партенопе, лежит поперек тротуара верзила, закинув руки под голову, черный, как копченая колбаса, и греет на солнце свой загорелый живот. Думаешь: ну, не умер, так спит; но стоит подойти к нему на расстояние окрика, как он вынимает руку из-под головы и говорит: «Signore, un soldo»[44]. Мальчишка на глазах у всех орошает тумбу и, не прерывая этого занятия, окликает тебя:«Signore, un soldo!» — видимо, требуя платы за таковое истинно неаполитанское зрелище. Если бы можно было зарабатывать криком, каждый неаполитанец превратился бы в Астора[45]. Продавать газеты с диким воинственным рыком, вспрыгивать с ними на ходу в трамваи и поезда или от божьего утра сидеть на тротуаре над парой носков, четырьмя шнурками для ботинок, тремя лимонами и ниточкой бус и до вечера горланить, включаясь в оглушительный уличный концерт, — в этом, видимо, и состоит основное призвание здешнего люда. Идешь пешком где-нибудь в районе Поццуоли; какой- нибудь vetturino[46] решает вдруг, что ты обязательно должен сесть в его пролетку; в таком случае откажись от сопротивления. Полчаса он будет следовать рядом с тобой и кричать, кричать... Сначала по-итальянски, ты не понимаешь; потом по-английски, ты делаешь вид, будто не понимаешь; потом по-французски, по-немецки, наконец, заголосит: «Да, да, харашо гаспада, отто лире, ахт, майгер, мосье, вера ту, ту компри, отто лире, сэр, эйт, эйт, эйт!»[47]. Наконец ты складываешь оружие перед подобным языковым феноменом и за несколько шагов до цели твоего путешествия влезаешь в его рыдван. Тогда он издает победный клич, его клячонка вздрагивает, vetturino всем телом повисает на вожжах, непрерывно вопя, каким-то непостижимым чудом делает резкий вольт прямо через канаву, изможденная лошадь сбавляет прыть, но через три шага снова подхватывает, ты летишь куда-то вниз, потом вверх, направо, налево, препоручаешь душу свою богу, и — ecco! — vetturino оглядывается торжествующе, словно победитель олимпийских заездов: приехали.
—Пятнадцать лир, синьор, — спокойно говорит он.
Ладно, даешь ему восемь.
—А чаевые? — не отстает удалец.
Ну, добавишь лиру: все-таки твоя жизнь этого стоит.
—А еще чаевые для коня...
Ты идешь взглянуть на Сольфатаро (не ходите туда, весь феномен смахивает на обыкновенное гашение извести у нас дома). Входная плата... шесть лир, гм. У входа без единого слова тебя берет под руку благородного вида господин; он держит какую-то плетенную из соломы косу и красиво насвистывает. К сожалению, ты слишком поздно соображаешь, что господин благородного вида — проводник, который у какой-то дыры зажигает на десять секунд соломенную плетенку, просто чтобы пустить дым. Потом он ведет тебя за какое-то строение; ты с благодарностью воображаешь, что там — уборная. А там всего лишь босой дед, он разрывает лопатой песок и предлагает тебе обжечь в этом песке руку; вдобавок он обязательно постарается сунуть тебе в карман три горячих камушка — на память — и подставляет открытую ладонь. Господин благородного вида, скрипя красивыми туфлями, выводит тебя наружу.
—Десять лир, сударь.
Ты недоумеваешь.
—Пять лир — моя такса, — объясняет господин, — четыре лиры за факел и лира на вино.
Сидишь вечером в приличном маленьком отеле; внизу море, вверху курится Везувий, в общем, все чудесно. К тому же на улице раздается звон гитары, и приятный голос запевает известную неаполитанскую песенку «Я оцарапалась». Вскоре к тебе подходит добрый молодец, подставляя шляпу: в ней на платочке лежат только пятилировые монеты. Тебе немного стыдно оттого, что ты бросил ему одну вдовью лиру; но любезный тенор ловко встряхивает шляпу, лира исчезает под платочком, и сверху остаются опять только пятилировые монеты.
Послушайте: я человек не расточительный и не плачу, за что не обязан; но прошу вас, когда я вернусь домой, не подавайте мне никто руки, чтобы я ненароком не сунул вам на чай. Или лучше, бога ради, скажите: есть ли на свете еще хоть что-нибудь даровое?
II
Да будет сказано по совести: красоты Неаполя — до некоторой степени надувательство. Неаполь некрасив, если только не смотреть на него издали. А издали он лежит, золотясь на солнце, а море такое синее, какое только можно себе вообразить; здесь, на переднем плане, — прекрасная пиния, а то, голубоватое, вдали, — Капри; Везувий выдохнул кусочек белой ваты, Сорренто светится далеко и чисто — боже, какая красота! Потом спускаются сумерки, густеет синь, выскакивают огоньки, вот уже целый полукруг искорок, а по морю плывет пароход, сияя зелеными, синими, золотыми огнями, — боже, какая красота! Но войди в город, путник, поброди по улицам, оглядывая все чешскими глазами, потешься, как можешь, живописностью здешней жизни — вскоре тебе станет от нее немного не по себе. Быть может, эти улицы живописны; но они же, во всяком случае, весьма безобразны. Ты бродишь под гирляндами грязного белья, прокладывая себе дорогу среди разного сброда, ослов, бродяг, коз, детей, автомобилей, корзин с овощами и прочим подозрительным свинством, среди мастерских, выперших до середины мостовой, отбросов, моряков, рыб, пролеток, зеленщиц, газетчиков, напомаженных девок, чумазых мальчишек, валяющихся на земле; все это толкается, орет, немилосердно сквернословит, выкрикивает, предлагает, голосит, щелкает кнутами и обманывает. Кажется, подлинная стихия неаполитанца — что-нибудь продавать; берется стул, старая упряжь, три свечки и вонючая камбала; и потом над этим день-деньской распевают какие-то заклинания, и называется это «торговля смешанным товаром». Вон убогий слепец продает семь тросточек; сжалишься над ним, купишь одну; убогий слепец требует за нее двадцать лир, ты даешь ему пять и уходишь: знай же, ты здорово попался. А вон идет молодец, несет стул на плече, а чтобы не было скучно, подыгрывает себе на корнете марш. Мне не повезло: я приехал в Неаполь через полчаса после прибытия короля Италии. Видимо, была устроена пышная встреча, улицы все еще забиты пролетками, автомобилями, двуколками, ослами, самыми удивительными рыдванами; чтобы убить время, кучера хлещут своих коняг, оглушительно щелкая кнутами, шоферы гудят что есть силы, все яростно орут, где-то в порту ухают пушки — я отроду не слыхал такого гвалта. И, милые мои, итальянские парадные мундиры — то-то потеха! Никогда бы не поверил, что мужчина согласится навешать на себя такие балдахины, перья, шнуры, кисти и ленты, лампасы, султаны, постромки и лямки, вышивки, цацки, позументы и гирлянды, какие были на крупных и мелких сановниках этой живописной страны. Да, чтобы не забыть: потом я видел, как король проезжал по улицам; восторженный народ... попросту аплодировал ему, как в театре.
Но вернемся к моим маниям. Неаполь — город, абсолютно лишенный творческого духа. Здесь всегда была плохая живопись и отвратительная архитектура: здешние люди довольствуются синим небом и щедрой природой, благословленной богом. Но в одной церкви (не помню уже, был ли это Сан-Дженнаро или Сан-Кьяра, а может быть, и еще какой-нибудь святой) я нашел обетные образки совершенно в народном духе; их там несколько сотен, и среди них попадаются очаровательные. Обычно на них изображена комната в чрезвычайно убедительной перспективе; на постели, как следует накрахмаленной и тщательно постланной, лежит больной, несколько женщин в юбках образца 1870 года заламывают руки и прижимают к глазам наглаженные платки; на стене изображен святой образ, и перед ним стоит на коленях мужчина в черном, стоит оцепенело, прямо и объемно, как туго набитый мешок. Вероятно, небеса не в силах были устоять перед столь примерной молитвой и ниспослали больному исцеление, за что и были возблагодарены этим скрупулезно выписанным ex voto[48]. Но, знаете, некоторые из этих образков отличаются серьезной простотой таможенного служащего Руссо[49], а другие словно вобрали в себя беспокойность Мунка[50]; это — в своем роде уникальная галерея анонимной живописи.