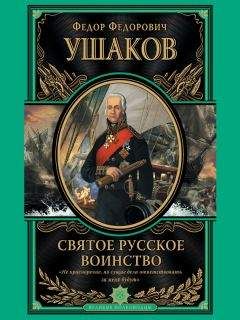С шумом и стоном валится куда-то в долину срубленное в лесу дерево, даже горы вздыхают в ответ — и снова плачет трембита. Теперь уже о смерти... Опочил кто-то после тяжелого труда. Куковала кукушечка около Менчила... вот теперь и песенка чья-то опочила...
Маричка отвечала на игру свирели, как голубка дикому голубю, песнями. Она их знала множество. Откуда они брались — не могла рассказать. Они, должно быть, качались вместе с ней еще в зыбке, плескались в купели, возникали в ее груди так, как самосевом всходят цветы на лугах, как пихты растут по горам. И что бы на глаза ни попалось, что бы ни случилось на свете: пропала ли овца, полюбил ли хлопец, изменила ли девушка, заболела корова, зашумела пихта,— все выливалось в песню, легкую, простую, как эти горы в их старом, первобытном бытии.
Маричка и сама умела придумывать песни. Сидя на земле, рядом с Иваном, она обнимала свои колени и тихо покачивалась в такт. Ее круглые икры, обожженные солнцем и голые от колен до красных онучей, темнели под краешком рубашки, и особенно милым становился изгиб полных губ, когда она начинала:
Зозулька ми закувала сива та маленька.
На все село iскладена пiсенька новенька...
Песня Марички рассказывала о хорошо знакомом, еще свежем событии: как околдовала Андрия Параска, как он умирал от этого и учил не любить чужих молодиц; или о горе матери, сын которой погиб в лесу, придавленный деревом. Песни были печальные, простые и такие трогательные, что за сердце хватали. Она их обычно заканчивала так:
Ой, кувала ми зозулька та й коло потiчка.
А хто iсклав спiваночку? — Йванкова Марiчка.
Она давно уже была Иванкова, еще с тринадцати лет. Что же в этом удивительного? Когда пасла скотину, видела часто, как любятся козел с козой, баран с овечкой,— все было так просто, естественно, существовало с начала мира, и ни одна нечистая мысль не засорила ей сердце. Правда, у коз и овец рождались после этого козлята и ягнята, но людям помогает ворожея. Маричка не боялась ничего. За поясом на голом теле она носила чеснок, над которым шептала знахарка, ей теперь ничто не повредит. Вспоминая об этом, Маричка лукаво улыбалась себе самой и обнимала Ивана.
— Сердце мое, Иванко! Будем мы парою?
— Как бог даст, моя миленькая.
— Эй, нет! Большую злобу затаили в сердцах родители наши. Не миновать нам беды.
Тогда его глаза темнели и топорик уходил в землю.
— И не надо их согласия. Пусть делают, что хотят, ты будешь моей.
— Ой, дружок-дружок! Что ты говоришь?
— Что слышишь, душечка.
И, словно назло семье своей, он на танцах так отплясывал с девушкой, что даже постолы трещали.
Однако не все складывалось так, как думал Иван. Хозяйство его разваливалось, уже не хватало на всех работы, и надо было идти внаймы.
Печаль грызла Ивана.
— Придется идти в пастухи, Маричка, — грустил он заранее.
— Что ж, иди, Иванко,— покорно говорила Маричка.— Такая уж наша судьба...
И она песнями скрашивала их разлуку. Ей было жалко, что надолго прекратятся их встречи в тихом лесу. Обнимала Ивана и, прижимаясь к его лицу русой головкой, тихо пела над его ухом:
I згадай мнi, мiй миленький,
Два рази на днину,
А я тебе iзгадаю
Сiм раз на годину.
— Будешь вспоминать меня?
— Буду, Маричка.
— Ничего! — утешала она его.— Ты должен, бедняжка, овец пасти, а я сено сгребать. Взберусь на копну, да и посмотрю на горы, на лужок, а ты мне затруби... Может быть, услышу. А как пойдут мелкие дожди сеяться по горам, сяду, да и заплачу, что не видать милого. А как в погожую ночь вызвездит, взгляну, которая звезда над полониною,— ту видит Иванко... Только петь перестану...
— Зачем? Пой, Маричка, не теряй веселости своей, а я скоро вернусь.
Но она только грустно качала головой.
Спiваночки мої милi,
Де я вас подiю?
Xiбa я вас, спiваночки,
Горами посiю,—
тихо обращалась к нему Маричка:
Гой ви мете, спiваночки,
Горами спiвати,
Я си буду, молоденька,
Сльозами вмивати.
Маричка вздохнула и еще печальнее запела:
Ой, як буде добра доля,
Я вас позбираю,
А як буде лиха доля,
Я вас занехаю...
— Вот так и я... Может быть, и забуду...
Иван слушал топкий девичий голос и думал, что она давно уже развеяла по горам песни свои, что их поют леса и покосы, вершины и луга, ими звенят потоки, их напевает солнце... Но придет пора, он вернется к ней, и она снова соберет песни, чтобы было чем отпраздновать свадьбу...
* * *
Теплым весенним утром пошел Иван на пастбище.
Леса еще дышали тенями, горные воды шумели на порогах, а плай{11} весело поднимался вверх среди изгородей. Хотя Ивану и тяжело было покидать Маричку, однако солнце и шумящий зеленый простор, поддерживавший вершинами небо, вливали в него бодрость. Он легко перескакивал с камня на камень, словно горный поток, и приветствовал встречных, лишь бы услыхать собственный голос:
— Слава Иисусу!..
— Во веки веков слава!
На далеких холмах одиноко стояли тихие гуцульские дворы, вишневые от пихтового дыма, которым они насквозь прокурились, острые крыши оборотов{12} с пахучим сеном, а в долине кудрявый Черемош сердито поблескивал сединой и мерцал под скалою недобрым зеленым огнем. Переходя поток за потоком, минуя хмурые леса, где иногда звякал колоколец коровы или белка осыпала с пихты шелуху от шишек, Иван подымался все выше. Солнце начинало печь, и каменистая тропинка натирала ноги. Теперь уже хаты попадались реже. Черемош серебряной нитью протянулся в долине, и шум его сюда не доходил. Леса уступали место горным лугам, мягким и пышным. Иван брел среди них, по озерам цветов, нагибаясь иногда, чтобы украсить кресаню пучком красного мха или бледным венком из ромашек. Склоны гор уходили в глубокие черные чащи, где рождались холодные потоки, куда не ступала человеческая нога, где нежился только бурый медведь — страшный враг скота — «вуйко». Вода встречалась реже. Зато как припадал он к ней, когда находил родник, этот холодный хрусталь, омывавший где-то желтые корни пихт и даже сюда доносивший гомон леса! Около такого родничка какая-то добрая душа оставляла горшок или кружку ряженки.
А тропка вела все дальше, куда-то в бурелом, где гнили друг на дружке голые колючие пихты без коры и хвои, словно скелеты. Пусто и дико было на этих лесных кладбищах, забытых богом и людьми, где только глухари токовали да извивались змеи. Тут царили тишина, великий покой природы, строгость и грусть. За плечами у Ивана уже виднелись горы и голубели вдалеке. Орел подымался с каменных шпилей, благословлял их широким размахом крыльев, слышалось холодное дыханье пастбища, и ширилось небо. Вместо лесов теперь стлался по земле можжевельник, черный ковер ползучих пихт, в котором путались ноги, и мхи одевали камень в зеленый шелк. Далекие горы открывали одна за другой свои вершины, изгибали хребты, вставали, как волны в синем море. Казалось, морские валы застыли как раз в то мгновенье, когда буря подняла их со дна, чтобы кинуть на землю и залить мир. Уже синими тучами подпирали горизонт буковинские вершины, окутались синевой ближние Синицы, Дземброня и Била Кобыла, курился Игрец, колола небо острым шпилем Говерля, и Черногора тяжестью своей давила землю.
Полонина! Он уже стоял на ней, на этой горной поляне, покрытой густой травой. Голубое море волнистых гор обступило Ивана широким кругом, и казалось, что эти бесконечные синие валы движутся на него, готовые упасть к ногам.
Ветер, острый, как наточенный топор, бил ему в грудь, дыханье Ивана сливалось с дыханьем гор, и гордость обуяла его душу. Он хотел крикнуть изо всех сил, чтобы эхо прокатилось с горы на гору до самого горизонта, чтобы заколебалось море вершин, но вдруг почувствовал, что его голос затерялся бы в этих просторах словно комариный писк...
Приходилось спешить.
За холмом, в долинке, где ветер не так досаждал, он нашел стаю{13}, закопченную дымом. Дыра для выхода дыма чернела в стене холодным отверстием. Овечьи загородки стояли пустые, и пастухи возились там, устраиваясь, чтобы было где ночевать возле овец. Старший пастух был занят добываньем живого огня.
Приладив между дверью и косяком палку, двое тянули ремень поочередно, каждый в свою сторону, отчего палка вращалась и скрипела.
— Слава Иисусу! — поздоровался Иван.
Но ему не ответили.
По-прежнему жужжала палка, и двое, сосредоточенные и строгие, тем же движением тянули ремень, каждый к себе. Палка стала дымиться, и вскоре небольшой огонек выскочил из нее и запылал с обоих концов. Старший пастух благоговейно поднял горящую палку и воткнул в костер, разложенный у дверей,
— Во веки веков слава! — повернулся он к Ивану.— Теперь у нас есть живой огонь, и пока он будет гореть, ни зверь, ни сила нечистая не тронут маржины, да и нас, крещеных...