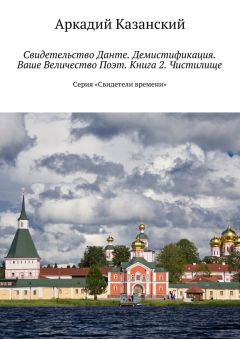Хозяин шел прямо вперед, опустив голову, как человек, который вышел прогуляться и подумать о чем-то своем. Шляпу он держал в руке, и волосы упали ему на лоб. Я знал, что они упали ему на лоб, потому что он раз или два тряхнул головой, словно взнузданная горячая лошадь, – он всегда так делал, когда гулял один и чуб падал ему на глаза.
Он шел прямо через улицу, прямо через газон и вверх по ступеням суда. Никто не поднялся за ним по лестнице. Наверху он медленно обернулся к толпе. Он смотрел на нее, мигая своими большими глазами, словно только что вышел из темного вестибюля и старался привыкнуть к свету. Он стоял и помаргивал, влажный чуб закрывал ему лоб, под мышками его светлого курортного костюма виднелись темные пятна пота. Потом он тряхнул головой, и, хотя солнце било ему в лицо, глаза его выкатились и в них возник этот блеск.
«Вот оно, начинается», – подумал я.
Вот так всегда: глаза выкатывались, будто внутри у него что-то произошло, а потом появлялся этот самый блеск. Вы знали: что-то в нем произошло – и говорили себе: «Вот оно, начинается». Так бывало всегда. Глаза выкатывались и вспыхивали, и что-то холодное сдавливало вам живот, словно кто-то схватил что-то там, в темноте, которая внутри вас, – схватил холодной рукой в холодной резиновой перчатке. Так бывает, когда, вернувшись ночью домой, вы находите под дверью желтый конверт с телеграммой и наклоняетесь и поднимаете, но не решаетесь раскрыть его сразу. И пока вы стоите в прихожей с конвертом в руке, вы чувствуете, что кто-то смотрит на вас – чей-то огромный неподвижный глаз смотрит сквозь пространство и темноту, сквозь стены и дома, сквозь ваше пальто, и пиджак, и кожу и видит, как вы съежились внутри, в темноте, которая и есть вы, съежились, словно мокрый, скорбный зародыш, которого вы носите в своем чреве. Глаз знает, что в этом конверте, и ждет, когда вы разорвете его и узнаете сами. Но мокрый, скорбный утробный плод, который и есть вы и съежился в темноте, которая – тоже вы, он поднимает свое скорбное сморщенное личико, и глаза его слепы, и он дрожит от холода внутри вас, ибо не хочет знать, что в конверте. Он хочет лежать в темноте, и не знать, и греться своим незнанием. Конец человека – знание, но одного он не может узнать: он не может узнать, спасет его знание или погубит. Он погибнет – будьте уверены, – но так и не узнает, что его погубило: знание, которым он овладел, или то, которое от него ускользнуло и спасло бы его, если бы он овладел им. В животе у вас холод, но вы открываете конверт, потому что удел человека – знание.
Хозяин стоял неподвижно, глаза его были расширены и горели, а в толпе не раздавалось ни звука. Слышно было, как одуревшая июльская муха без устали пилит в листьях катальпы. Потом и этот звук умолк, и осталось лишь одно ожидание. Тогда Хозяин шагнул вперед, легко и неслышно.
– Я не собираюсь говорить речь, – сказал Хозяин и усмехнулся. Но глаза его по-прежнему были расширены и блестели. – Я не затем приехал, чтобы говорить речи. Я приехал посмотреть на моего папашу, посмотреть, осталось ли у него чего-нибудь пожевать в коптильне. Я скажу ему: «Папа, где же копченая колбаса, которой ты хвалился, где же ветчина, которой ты хвалился всю зиму, где…»
Это были только слова, а голос звучал совсем по-другому; глухой, он выходил как будто через нос, с короткими передышками, какие вы слышите в речи наших деревенских: Папа – где же – твоя…
Но глаза у него блестели, и я думал: «Может быть, еще начнется». Может быть, еще не поздно. Никогда нельзя было угадать заранее. Миг – и начнется, миг – и он заговорит.
Но он продолжал: «Словом, я не собираюсь говорить здесь речи» – своим обычным голосом, своим собственным. А может, и этот не был его настоящим голосом? Да и какой у него в самом деле голос, какой из его голосов настоящий? – спрашивали вы себя.
Он говорил:
– И приехал я не затем, чтобы чего-нибудь у вас клянчить – даже голосов на выборах. В Священном писании сказано: «У ненасытимости две дочери: «Давай, давай!» Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут: «Довольно!» – Теперь голос его стал другим. – Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит: «Довольно!» Но Соломон мог бы добавить сюда еще одну вещь. Он мог бы закончить свой списочек политиком, которому никогда не надоедает говорить «давай!».
Он стоял в ленивой позе, наклонив набок голову и мигая. Потом улыбнулся и сказал:
– Если у них в те времена были политики, то и они твердили: «Давай, давай!» – вроде нас, нынешних. Давай, давай, меня звать Незевай. Но сегодня я не политик. Я сегодня выходной. Я даже не стану просить, чтобы вы за меня голосовали. Говоря честно, как перед господом богом, мне это и ни к чему. Пока у меня еще есть клетушка в том большом доме с белыми колоннами на переднем крыльце, где подают на завтрак персиковое мороженое. Хотя нельзя сказать, чтобы я пришелся по нраву тамошней шайке… Знаете, – он подался вперед, словно желая поделиться секретом, – порою смех берет, до чего я не могу поладить с некоторыми людишками. Хоть из кожи лезь. Я был вежливый. Я говорил: «Пожалуйста». А пожалуйста – не лошадь, далеко на нем не уедешь. Однако похоже, что им придется потерпеть еще один срок. И вам придется. Так что терпите и улыбайтесь. Все равно как чирей. Верно?
Он замолчал и оглядел толпу, медленно поворачивая голову и как будто задерживаясь взглядом то на одном лице, то на другом. Потом улыбнулся, моргнул и сказал:
– Ну, чего еще? Языки проглотили?
– Как чирей на заднице, – крикнул кто-то в толпе.
– А ты, чертова кукла, – заорал в ответ Вилли, – на пузе спи.
Кто-то засмеялся.
– И поблагодари бога, – орал Вилли, – что он хоть тут не обошел тебя своей милостью и удосужился приделать переднюю часть к такому тощему огузку, как ты!
– Дай им, Вилли! – закричали в толпе. И все начали смеяться.
Хозяин вытянул правую руку ладонью вниз и выждал, пока они перестанут свистеть и смеяться. Тогда он заговорил:
– Нет, я не собираюсь у вас клянчить. Ни голосов, ни чего другого. За этим я, пожалуй, приеду в другой раз. Если мне не разонравится большой дом и персиковое мороженое на завтрак. Да я и не надеюсь, что вы все, как один, побежите за меня голосовать. Господи, если бы все вы стали голосовать за Вилли, о чем бы вам было спорить? Не о чем, кроме как о погоде, а за погоду не проголосуешь.
Нет, – сказал он, – и это был уже другой голос, спокойный, мягкий, неторопливый, доносившийся как будто издалека. – Сегодня я ничего у вас не прошу. Сегодня у меня выходной день, и я приехал к себе домой. Человек уходит из дома, что-то гонит его прочь. По ночам он лежит на чужих кроватях, и чужой ветер шумит над ним в деревьях. Он бродит по чужим улицам, и перед глазами его проходят лица, но он не знает имен для этих лиц. Голоса, которые он слышит, – не те голоса, что звучат в его ушах с тех пор, как он ушел из дома. Это громкие голоса. Такие громкие, что заглушают голоса его родины. Но вот наступает минута тишины, и он снова слышит прежние голоса, те голоса, которые он унес с собой, уходя из дома. И он уже разбирает, что они говорят. Они говорят: «Возвращайся». Они говорят: «Возвращайся, мальчик». И он возвращается.
Голос его оборвался. Он не утих, перед тем как исчезнуть. Еще секунду назад он был тут, звучал – слово за словом, в мертвой тишине, которая висела над толпой и над площадью перед зданием суда и казалась еще мертвее от жужжания июльских мух в кронах двух катальп, росших посреди газона. Голос длился – слово за словом – и вдруг пропал. Только мухи жужжали, словно у вас в мозгу, жужжали, скрипели, словно пружины и шестерни, которые будут работать, что бы вы ни говорили, работать, пока не износятся.
Он стоял с полминуты, не шевелясь и не произнося ни слова. Он как будто не замечал толпы. И вдруг, точно увидев ее впервые, улыбнулся.
– И он возвращается, – сказал Хозяин с улыбкой, – когда у него выдается свободный вечерок. И говорит: «Здорово, братцы! Как поживаете?» Вот и все, что я скажу вам.
Вот и все, что он сказал. Он смотрел вниз, улыбался и поворачивал голову, словно задерживаясь взглядом то на одном лице, то на другом.
Потом он стал спускаться по ступеням, будто только что вышел из темного вестибюля, из большой двери, зиявшей за его спиной, и спускался сам по себе, и не было перед ним никакой толпы, ни одного постороннего глаза. Он спустился по ступенькам прямо к тому месту, где стояла наша компания – Люси Старк и остальные, – кивнул нам мимоходом, как шапочным знакомым, и продолжал идти прямо на толпу, будто ее не было. Люди расступались, не сводя с него глаз, давали ему дорогу, а мы шли за ним следом, и толпа смыкалась за нами.
Теперь народ кричал и хлопал в ладоши. Кто-то надрывался: «Здорово, Вилли!»
Хозяин прошел сквозь толпу, пересек улицу, влез в «кадиллак» и сел. Мы полезли за ним, а фотографы и остальная шатия отправились к своей машине. Рафинад вырулил на улицу. Люди уступали дорогу не сразу. Они не могли, они стояли слишком тесно. Когда мы ехали сквозь толпу, их лица были совсем рядом, можно было дотянуться. Лица смотрели на нас. Но теперь они были снаружи, а мы – внутри. Глаза на гладких длинных красных лицах и на коричневых морщинистых лицах смотрели в машину, прямо на нас.