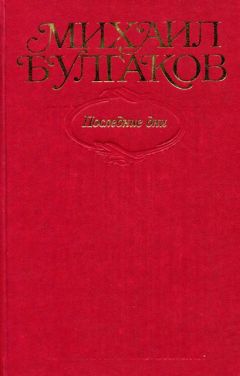Булгаков часто думал о сложившейся атмосфере Театра. Станиславский и Немирович-Данченко по-прежнему, как уже десятки лет, не терпели друг друга, их творческие принципы были чуть ли не прямо противоположными, их административные способы управления Театром тоже существенно различались. Старики-актеры и актрисы постепенно утрачивали свое обаяние первооткрывателей, повторяли самих себя в разных ролях, не замечая того, но зрителя не обманешь… Зрителя можно заманить свежей темой, острой проблемой, талантливой игрой. А вместо этого Старик занялся перестройкой в управлении, выгнал замечательного Якова Леонтьевича Леонтьева, потом предложил написать заявление Сахновскому, а тот пошел в ЦК Рабиса с протестом, председатель ЦК Рабиса поддержал его протест, заявив, что наверху недовольны Станиславским за все его новшества. Естественно, Станиславский узнал об этом недовольстве и как очень «смелый» человек тут же пошел на попятную, ругал свой «нижний кабинет» за то, что они его подвели, орал, будто, дико до четырех часов ночи. И все оставил как было. Только милый Яков Леонтьевич Леонтьев остался без места и очень переживал. Но вскоре его взяли заместителем директора Большого театра. Может, и к лучшему…
Все лето и до сих пор Булгаков боялся ходить один. А стоило хоть на минуту остаться дома одному, как возникал страх смерти, одиночества, пространства. Так и водила его в Театр Елена Сергеевна. Потом уводила. А без нее — страшно… Уж очень хорош был шок. Целый месяц лечились электричеством в Ленинграде, использовали и гипноз. Какое-то время помогало, но и по сей день что-то словно уходило из под ног, заволакивало сознание, чувствовал беспомощность, и всем его существом овладевал страх смерти. Это бывало и раньше, но теперь все чаще и чаше. А все потому, что отказали в посадке за границу.
…Как хорошо все начиналось несколько месяцев тому назад… Получили наконец квартиру, ждали этого долго, ходили узнавать чуть ли не каждый день. Квартира — это самое главное, что он хотел получить, Елена Сергеевна говорит, что это у него «пунктик». Действительно, все были счастливы, а когда пустили газ, блаженству, казалось, не было конца. Какая уж тут работа, хотя приходилось выполнять свои многочисленные договора с театрами.
Так уж повелось, что постоянно приходилось отвлекаться на побочные замыслы. А замыслов у него, как всегда, возникало множество. И каждый из них — интереснейший. Снова потянуло Булгакова к фантастической комедии, жанр которой, казалось ему, способен был передать нравы и черты своего времени и унести в будущее, чтобы показать всесилие человеческого ума и его технических возможностей.
Читаешь комедию сейчас и поражаешься тому, как блистательно сменяют одна картина другую. Сколько юмора таится в каждой сцене, каким чувством театра и его возможностей обладают сцены пьесы «Блаженство», которую он закончил в 1934 году.
«Блаженство» Булгаков заканчивал в новой квартире, в Нащокинском переулке, куда он вместе с Еленой Сергеевной переехал 18 февраля 1934 года. В письме П. С. Попову Булгаков рассказывает об устройстве на новом месте, о работе в Художественном театре, о репетициях «Мольера» и «Пиквикского клуба», где ему дали роль Судьи — президента суда, о работе над новой комедией «Блаженство». «…Один из Колиных друзей (Коля: Н. Н. Лямин, друг М. Булгакова. — В. П.), говоря обо мне всякие пакости, между прочим сообщил, что во мне „нездоровый урбанизм“, что мне, конечно, немедленно и передали.
Так вот, невзирая на этот урбанизм, я оценил и белый лес, и шумящий самовар, и варенье. Вообще, и письмо приятное, и сам ты тоже умный. Отдыхай!
Зима эта воистину нескончаемая. Глядишь в окно, и плюнуть хочется. И лежит, и лежит на крышах серый снег. Надоела зима!
Квартира помаленьку устраивается. Но столяры осточертели не хуже зимы. Приходят, уходят, стучат.
В спальне повис фонарь. Что касается кабинета, то ну его в болото! Ни к чему все эти кабинеты. Пироговскую я уже забыл. Верный знак, что жилось там неладно. Хотя было и много интересного…»
В конце апреля 1934 года Булгаков прочитал «Блаженство» в Театре сатиры, но театр не принял пьесы; выступавшие говорили, «что начало и конец хорошие, но середина пьесы куда-то совершенно не туда». С этой пьесой Булгаков связывал какие-то надежды на спокойную работу в дальнейшем, но получилось так, что над пьесой надо еще работать, изгоняя все сцены будущего.
Работы было много. И в эти месяцы Булгакову предложили написать киносценарий по «Мертвым душам». Булгаков надеялся, закончив пьесу, тут же начать работу над сценарием. Но забыть о пьесе, как он предполагал, ему не удалось, только через год он закончит ее и назовет «Иван Васильевич», где уже не будет сатиры на будущее, а будет сатира на прошлое.
А пока он продумывает киносценарий, встречается с И. А. Пырьевым, режиссером будущего фильма, переписывается с ним, читает ему первые сцены. В апреле Булгаков подает заявление на заграничную поездку, оформляет документы, мечтая о том, как он побывает в Париже и Риме, какие замечательные путевые очерки напишет он.
Снова самыми тайными надеждами и своими переживаниями в этот период он делится с задушевным другом П. С. Поповым: «…25-го читал труппе Сатиры пьесу. Очень понравился всем первый акт и последний. Все единодушно вцепились и влюбились в Ивана Грозного. Очевидно, я что-то совсем не то сочинил. Теперь у меня большая забота. Думал сплавить пьесу с плеч и сейчас же приступить к „Мертвым душам“ для кино. А теперь вопрос осложнился. Я чувствую себя отвратительно, в смысле здоровья. Переутомлен окончательно. К 1 августа надо во что бы то ни стало ликвидировать всякую работу и сделать антракт до конца сентября, иначе совершенно ясно, что следующий сезон я уже не в состоянии буду тянуть.
Я подал прошение о разрешении мне заграничной поездки на август — сентябрь. Давно уже мне грезилась средиземная волна, и парижские музеи, и тихий отель, и никаких знакомых, и фонтан Мольера, и кафе, и — словом, возможность видеть все это. Давно уж с Люсей разговаривал о том, какое путешествие можно было бы написать! И вспомнил незабвенный „Фрегат „Палладу““ и как Григорович вкатился в Париж лет восемьдесят назад! Ах, если б осуществилось! Тогда уж готовь новую главу — самую интересную.
Видел одного литератора как-то, побывавшего за границей. На голове был берет с коротеньким хвостиком. Ничего, кроме хвостика, не вывез! Впечатление такое, как будто он проспал месяца два, затем берет купил и приехал.
Ни строки, ни фразы, ни мысли! О, незабвенный Гончаров! Где ты?»
Но поездка, о которой он так мечтал и с которой так много связывал, не состоялась: 7 июня Булгакову отказали в поездке.
Казалось бы, ничто не предвещало отказа. Заявления приняли благосклонно. 1 мая 1934 года Булгаков написал письмо Горькому, приложив копию письма Авелю Сафроновичу Енукидзе, с просьбой поддержать его в правительственных кругах в деле, которое имело для него «действительно жизненный и чисто писательский смысл». Он хотел бы подольше побыть за границей, во-первых, для того, чтобы написать книгу путешествий, во-вторых, повидать братьев Николая и Ивана, в-третьих, за последние годы за границей появились желающие ставить его пьесы, переводить его «Белую гвардию», Мария Рейнгард ставила «Зойкину квартиру» в Париже, «Турбиных» — в Праге, Америке, Лондоне. Необходимо было все посмотреть, дать советы, запретить всякую отсебятину, на какую были горазды теперешние театры. «Я в такой мере переутомлен, — писал Булгаков Горькому, — что боюсь путешествовать один, почему и прошу о разрешении моей жене сопровождать меня. Я знаю твердо, что это путешествие вернуло бы мне работоспособность…»
К несчастью, как раз в эти дни первомайского праздника серьезно заболел сын Горького — Максим, а 12 мая в «Литературной газете» сообщили о смерти Максима Пешкова. Соболезнование Горькому подписали члены правительства, в том числе и Сталин; «Вместе с Вами скорбим и переживаем горе, так неожиданно и дико свалившееся на нас всех».
Павел Попов уговаривал Булгакова послать Горькому соболезнование, но Булгаков решительно отказался: если бы он получил ответ на письмо от 1 мая… Нельзя же в самом деле унижаться. Да и возникла какая-то непобедимая уверенность, что и без Горького с поездкой получится: ведь Яков Леонтьевич Леонтьев, их верный друг, лично вручил заявление самому Енукидзе, который через несколько дней наложил благосклонную, как уверяли знающие люди, резолюцию: «Направить в ЦК». Пугали только слова Ольги Бокшанской, которая хорошо знала «кухню» партийной и советской власти:
— С какой стати Маке должны дать паспорт? Дают таким писателям, которые заведомо напишут книгу, нужную для Союза. А разве Мака показал чем-нибудь после звонка Сталина, что он изменил свои взгляды?
А если так думают и наверху? Но пока страхи и сомнения отбрасывали как несущественную мелочь. И вот — отказ в паспортах.