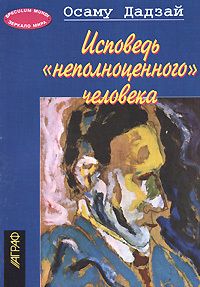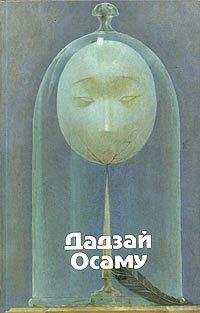и нервозность, непрестанно изображал наивное воодушевление и мало-помалу превращался в законченного фиглярствующего чудака.
Пока я вызываю у них смех, все хорошо, стало быть, они вряд ли озаботятся, что я остаюсь вне того, что они называют «жизнью», думал я, лишь бы не намозолить им глаза, ведь я – ничто, ветер, небо; и я, паясничая, потешал не только членов семьи, но и мужскую, и женскую прислугу, которую считал даже более непостижимой и опасной, – в отчаянии я и ей угождал шутовством.
Летом я смешил домашних, разгуливая по коридору в красном шерстяном свитере, надетом под юкату. Даже самый старший из моих братьев, который смеялся редко, при виде меня покатывался со смеху. «Да не идет он тебе, Ё-тян!» – непередаваемо милым тоном заявлял он. Не настолько я был чудаковатым невеждой, чтобы в разгар лета расхаживать в шерстяном свитере хоть в жару, хоть в холод. На обе руки я натягивал, как перчатки, гетры старшей сестры, и когда они выглядывали из рукавов юкаты, казалось, будто на мне свитер.
Мой отец часто ездил в Токио по делам, где в принадлежащем ему городском доме в квартале Сакураги района Уэно проводил по полмесяца. А к возвращению накупал в поистине огромных количествах гостинцы не только членам семьи, но и другим родственникам – можно сказать, для отца это было увлечением.
Однажды, накануне отъезда в Токио, отец созвал детей в гостиную, стал с улыбкой расспрашивать всех по очереди, кому что привезти, и ответы каждого вносил в записную книжку. Вообще-то такую заботу о детях отец проявлял редко.
– А тебе, Ёдзо?
Услышав это, я лишь пробормотал что-то невнятное.
От вопроса, чего я хочу, я сразу перестал чего-либо хотеть. В голове мелькнула мысль, что это не имеет значения, все равно ничто не доставит мне удовольствия. Вместе с тем от того, что мне предлагали, я не мог отказаться, не важно соответствовало оно моим вкусам или нет. Если предложенное было мне противно, я не мог так прямо и сказать, и даже то, что мне нравилось, я брал нерешительно, как ворованное или чрезвычайно неприятное, и мучился от необъяснимого страха. Словом, я был не в состоянии даже выбрать одно из двух. С возрастом эта склонность все больше стала казаться мне одной из главных причин постыдности, как уже говорилось, всей моей жизни.
Я молчал и ерзал на месте, на отцовском лице отразилось легкое недовольство.
– Ну так книгу? А вот в торговых рядах в Асакусе продают для новогоднего танца маски льва размером как раз для детей, не хочешь?
Ответить на вопрос «не хочешь?» было невозможно. И спаясничать не получилось. Шута постиг полный провал.
– Книга будет в самый раз, – серьезно сказал старший брат.
– Да?..
Отец явно потерял интерес к происходящему и шумно захлопнул записную книжку, не сделав в ней никаких пометок.
Той ночью я, дрожа от страха на своем футоне, думал о том, как оплошал, рассердил и обидел отца, о том, что его возмездие наверняка будет ужасным, соображал, нельзя ли как-нибудь исправить положение, пока еще не поздно, и наконец тихонько поднялся, прошел в гостиную, куда в ящик письменного стола отец уже положил записную книжку, вынул ее, перелистал страницы, нашел ту самую, со списком пожеланий, лизнул карандаш, написал «маска льва» и вернулся в постель. На самом деле маску для танца льва я нисколько не хотел. Если уж на то пошло, книга была бы гораздо лучше. Однако я заметил, как отцу хотелось купить и привезти мне эту маску, и стремление угодить ему хотя бы для того, чтобы поднять настроение, придало мне смелости для рискованной затеи – пробраться среди ночи в гостиную.
Предпринятый мною необычный шаг увенчался таким большим успехом, какого я только мог пожелать. Спустя некоторое время, когда отец вернулся из Токио, я, находясь в детской, услышал, как он громко рассказывал матери:
– В лавке игрушек в торговых рядах открыл записную книжку, а в ней вот что – «маска льва». Но не моей рукой. Что такое, удивился я, и тут до меня дошло: это же Ёдзо напроказничал! Когда я спрашивал, что ему привезти, отмалчивался да улыбался, а потом, стало быть, так захотел эту маску, что не утерпел. Он ведь и в самом деле чудной малец. Притворяется, будто ему все равно, а потом сам пишет. Если очень хочется, так и скажи. Я аж в лавке игрушек рассмеялся. А ну-ка, позови Ёдзо сюда!
Однажды я собрал мужскую и женскую прислугу в комнате, обставленной в западном стиле, велел одному из слуг как попало колотить по клавишам пианино (в нашем доме, пусть он и находился в провинции, имелась почти полная обстановка), а сам индейскими плясками под этот дикий аккомпанемент заставил всех зрителей покатываться со смеху. Средний брат сфотографировал со вспышкой мой танец, и когда снимки были готовы, моя фитюлька, выглядывающая из-под набедренной повязки, сделанной из ситцевого платка-фуросики, опять вызвала взрывы хохота домашних. Для меня и этот случай стал, пожалуй, неожиданным успехом.
Каждый месяц я, никому об этом не распространяясь, прочитывал новые номера не менее десятка разных журналов для подростков и вдобавок всевозможные книги, которые выписывали из Токио, хорошо знал таких персонажей, как эксперт Абурокадабуро, доктор Кактамего и тому подобных, свободно ориентировался в страшных, смешных, исторических произведениях и анекдотах – таких, как кайдан, кодан, ракуго и эдо-кобанаси, поэтому не лез за словом в карман, чтобы с серьезным видом потешать весь дом.
Но увы, оставалась еще школа.
Там ко мне поначалу относились уважительно. Сама мысль о том, что меня уважают, внушала мне ужас. Почти суметь заморочить людям головы, а потом, когда некто всеведущий и всесильный раскусит тебя и сотрет в порошок, терпеть позор, который хуже смерти, – вот что в моем понимании означало «пользоваться уважением». От того, кому известно об обмане «пользующегося уважением», вскоре об этом узнают и другие и, обнаружив, что их провели, разозлятся – о, какой тогда будет их месть! Кажется, волосы встают дыбом, даже если просто представить.
В школе я удостаивался уважения не столько потому, что родился в богатой семье, сколько по той причине, что «успевал» в учебе. С малых лет хилый, я пропускал месяц-другой, а то и чуть ли не целый учебный год, но когда еще слабый после болезни приезжал в школу на рикше и пробовал сдать годичные экзамены, то оказывался самым, что называется, «успевающим» в классе. И даже когда был здоров, я совсем не занимался: в школе на уроках я рисовал мангу и тому