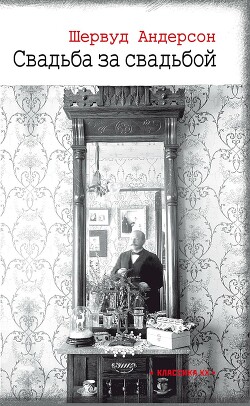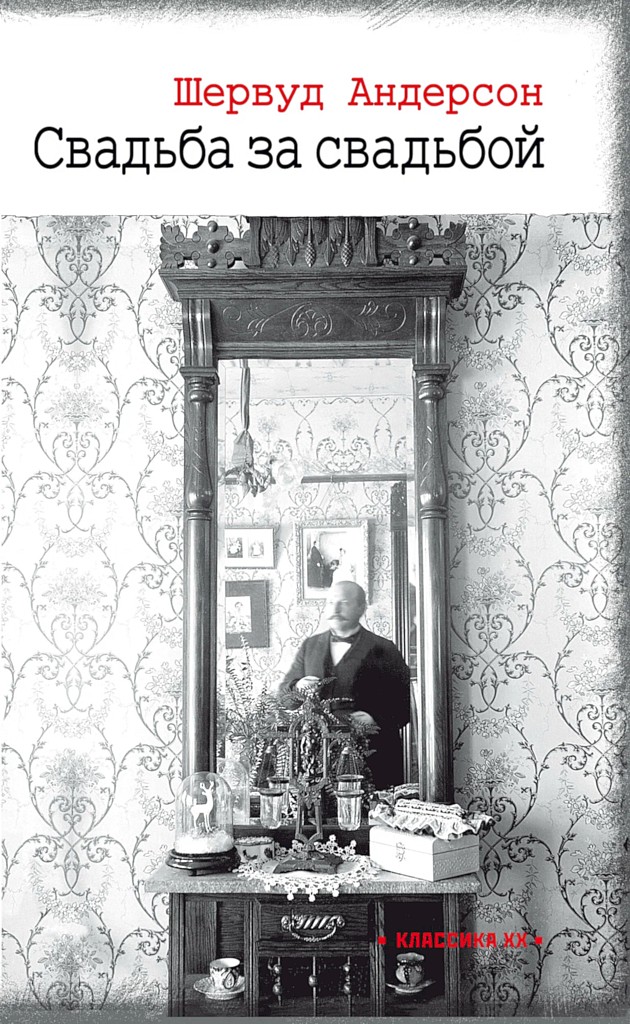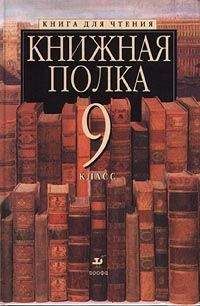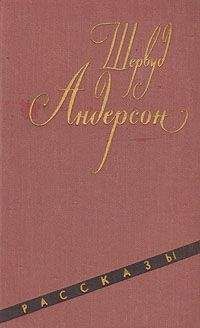И вот два новых события произошли в причудливом мире Джона Уэбстера. По реке в лодке спустилась женщина, золотисто-коричневая женщина, и все работники бросили свое дело, распрямились и взглянули на нее. Голова у нее была непокрыта, и, когда она толкала лодку сквозь неторопливое течение, ее юное тело раскачивалось из стороны в сторону, как раскачивались тела работников, когда они возились с бревнами. Жаркое солнце заливало коричневое девичье тело; шея и плечи ее были обнажены. Один из мужчин на плоту окликнул ее.
— Здорово, Элизабет! — прокричал он. Она перестала грести и на мгновение позволила течению подхватить лодку.
— И тебе привет, китайчонок! — ответила она со смехом.
Она снова налегла на весла. В просвет между деревьями, деревьями, что были погружены в желтую воду, вырвалось бревно, и юный негр стоял на нем в полный рост. Он с силой оттолкнулся шестом от одного из деревьев, и бревно быстро прибило к плоту, где его уже поджидали двое работников.
Солнце заливало шею и плечи смуглой девушки в лодке. От движений ее рук на коже вспыхивали и танцевали огни. Кожа была коричневой, медно-золотистой. Лодка скользнула по излучине реки и исчезла. На мгновение снова стало тихо, но вот из-за деревьев зазвучал голос, и все негры подхватили новую песню:
Фома, Фома, святой Фома,
Брось свое неверье!
На земле мы все рабы —
Так не лучше ли в гробы,
Выспимся под Отчим кровом, —
будет нам спасенье.
Джон Уэбстер, часто моргая, наблюдал за людьми, разгружающими доски у фабричных ворот. Маленькие голоса у него внутри бормотали странные, радостные слова. Нельзя быть просто стиральномашинным фабрикантом из висконсинского городка. Что бы ты там о себе ни думал, случаются такие поразительные моменты, когда ты становишься чем-то еще. Ты становишься частью чего-то настолько огромного — прямо как та земля, где ты живешь. Вот, например, проходишь ты мимо городской лавчонки. Лавчонка в каком-то Богом забытом углу, между железнодорожными путями и пересыхающим ручьем, но она — тоже часть чего-то огромного, чего-то такого, о чем никто до сих пор так и не задумался. Да и сам он был просто человеком, который стоит на своих двоих и одет в самую обыкновенную одежду, но и в его теле было что-то такое, ну, может быть, не огромное, но каким-то смутным, каким-то всеобъемлющим образом связанное с этим огромным. Просто нелепость, что он никогда не задумывался об этом раньше. Задумывался или нет? Вот перед ним люди, разгружающие доски. Они прикасаются к этим доскам своими ладонями. Какой-то тайный союз был заключен между ними и теми чернокожими, что валили лес и спускали бревна вниз по течению к лесопилке в какой-то южной дали. Ты бродишь целый день туда-сюда и дотрагиваешься до предметов, к которым прикасались другие. В этом было что-то такое желанное — в осознании того, что к этим вещам прикасались. В осознании значимости вещей и людей.
Так не лучше ли в гробы,
Выспимся под Отчим кровом, —
будет нам спасенье.
Он отворил дверь и прошел в цех. Неподалеку от входа мастеровой распиливал на станке доски. Ясное дело, для изготовления его стиральных машин не всегда отбирались лучшие куски древесины. Иные дощечки довольно скоро ломались. Их использовали для изготовления деталей, которые были запрятаны поглубже в нутро машины и не так сильно бросались в глаза. Машины надо было продавать недорого. Он ощутил легкий укол совести, а потом рассмеялся. Как легко увлечься всякими пустяками, когда на уме у тебя столько важных и глубоких вопросов. Ты как ребенок, которому надо научиться ходить. Так чему именно следует научиться? Ходить, чтобы обонять, осязать, ощущать предметы — может быть, так? Научиться тому, что в мире, помимо тебя, есть кто-то еще. Кто это? Ты должен немного осмотреться. Как было бы славно воображать, будто на стиральные машины, которые покупают бедные женщины, идут только лучшие доски, но подобные мысли развращают. Чего доброго, заразишься эдаким самодовольством — оно всегда появляется, если предаваться мыслям о стиральных машинах из досок наилучшего качества. Он знавал таких людей и всегда относился к ним презрительно.
Он прошел фабрику насквозь, минуя шеренги мужчин и подростков, которые, склонившись над станками, вытачивали всевозможные детали стиральных машин, соединяли их друг с другом, красили и упаковывали машины для отправки. Верхняя часть здания была отведена под склад. Он прошел мимо сваленных в кучу обструганных досок к окну, выходившему на мелкую, почти пересохшую речушку, на берегу которой стояла фабрика. Повсюду висели плакаты, запрещающие курить, но он позабыл об этом, достал сигарету и закурил.
Мысли продолжали пульсировать в нем, и их ритм был каким-то образом связан с ритмом движений темнокожих тел в том лесу в мире его воображения. Он стоял у ворот своей фабрики в висконсинском городке, но в ту же минуту он находился на Юге, посреди реки, вместе с какими-то чернокожими, и еще он был с рыбаками на берегу Моря Галилейского, когда туда пришел человек и начал произносить странные речи. «Должно быть, на свете больше одного меня», — смутно подумалось ему, и, когда разум до конца сформулировал эту мысль, с ним самим будто бы что-то произошло. Всего несколько минут назад, стоя рядом с Натали Шварц, он подумал о том, что ее тело — дом, в котором она живет. И эта мысль тоже осветила его разум. Так разве в доме может жить только один человек?
Сколько всего непонятного вмиг бы прояснилось, распространись такая идея повсюду. Как пить дать, она приходила в голову множеству других людей, но они, быть может, не сумели понять, каков самый простой следующий из нее вывод. Сам он ходил в городскую школу, а потом учился в Висконсинском университете в Мэдисоне. Было время — он прочел целую уйму книг. Когда-то Уэбстеру даже казалось, что ему может прийтись по душе самому писать книги.
Несомненно, многих писателей посещали мысли, подобные тем, которые сейчас приходили ему в голову. На страницах иных книг можно найти убежище от неразберихи повседневности. Возможно, выводя слова, эти люди чувствовали в себе, как чувствовал сейчас он сам, какую-то особую бодрость, какую-то завершенность.
Он затянулся сигаретой и посмотрел за реку. Фабрика стояла на краю города, и за рекой начинались поля. Все мужчины и женщины ходили по той же самой земле, что и он. По всей Америке, по всему миру, коли на то пошло, мужчины и женщины совершали всякие само собой разумеющиеся действия почти так же, как он. Они поглощали пищу, спали, работали, занимались любовью.
Размышления немного утомили его, и он потер лоб ладонью. Сигарета погасла; он бросил ее на пол и закурил другую. Мужчины и женщины пытались проникнуть в тела друг друга, и время от времени это исступленное стремление было сродни безумию. Это называлось — заниматься любовью. Он задавался вопросом, настанет ли когда-нибудь день, когда мужчинам и женщинам ничто не будет в этом мешать. Как же трудно было пробираться сквозь путаницу собственных мыслей.
Уверен он был только в одном — в том, что раньше он никогда не бывал в таком состоянии. Хотя нет, это вранье. Один раз был. Когда женился. Тогда он чувствовал себя точно так же, но с тех пор что-то произошло.
Он начал думать о Натали Шварц. В ней было что-то чистое и невинное. Быть может, сам того не зная, он влюбился в нее, в эту дочь владельца бара и ирландской старухи пьянчужки. Если так — это многое бы объяснило.
Он почувствовал, что кто-то подошел к нему, и обернулся. В нескольких футах от него стоял работник в комбинезоне. Он улыбался.
— Сдается мне, вы кое-что забыли, — сказал он.
Джон Уэбстер улыбнулся тоже.
— Так и есть, — ответил он. — Я много чего забыл. Мне почти сорок, и я, думается, позабыл жить. А вы?