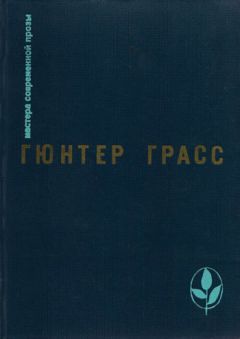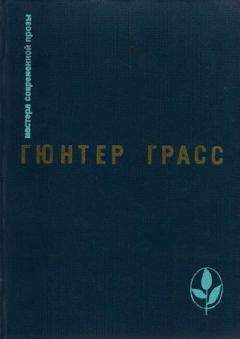В воскресный день пополудни я пригласил их всех. Всех. Двенадцать. На бумаге многое возможно. Пришли не все. Я накрыл на улице, перед своей мастерской, посреди ещё бесформенных каменных блоков: тарелки, миски, бокалы, ложки, ножи и, опережая время, двузубые вилки, над которыми криво ухмылялась жена мясника, ставшая позднее высеченной в камне Реглиндой, хотя она же первая наколола на вилку горячую картошину в мундире. Ну конечно, какого лешего я подал, опережая время, картофель? Хотя они им даже понравились, эти непривычные клубни. Только дочь наумбургского ювелира, которой суждено будет позже, много позже, стать натурщицей для Мастера из Наумбурга в качестве знаменитой Уты, казалось, испытывала отвращение к каждому кусочку. К тому же то, что она не желала есть, она держала очень тонкими пальцами. Рядом с ней сидел кузнец, похожий на долговязого, вылепленного из ракушечного известняка маркграфа Эккехарда, и тщетно подбадривал юное создание, предлагая поесть: «Ну же, дитя моё. Разве они такие невкусные, эти тартюфли или земляные яблочки [13]?» Даже из жареных колбасок, которые, как я утверждал, были настоящими тюрингскими, она не попробовала ни одной, в то время как другие натурщики — для образов донаторов Дитмара и Тимо — два кожевника-дубильщика из предместья, беспрерывно спорившие друг с другом, основательно налегали на них, так что колбаски на гриле у меня скоро закончились. Хорошо ещё, что у меня была в запасе современная готовая еда из полуфабрикатов — два десятка упаковок рыбных палочек. Они пришлись по вкусу даже привередливой Уте.
Спокойно и размеренно, сперва только ложками, а потом управляясь с ножом и вилкой, ели торговец сукном и его жена, которых Мастер из Наумбурга попросил позировать за Вильгельма Камбургского и графиню Гербург. Как глубокомысленно они жевали! На десерт был подан холодный вишнёвый суп с маринованными вишнями, в котором я сварил пшеничные клёцки [14]. Палочки корицы и кожура лимона придавали ему особый вкус. И каждый, даже будущая Ута, с тонкой верхней и полноватой нижней губой, угощался, пока кастрюля не опустела. Кстати, прихлёбывали все натурщики из ложечек, даже Гербург, стараясь казаться мещански-благовоспитанной.
Я попытался вступить в разговор с Мастером из Наумбурга, довольно щуплым человеком, которому едва ли доверяли тяжёлую работу по камню. Он посетовал на низкое качество ракушечного известняка, что добывают в ближайшей округе. «Песчаник, — сказал он, — тот, который берут по реке Майн, был бы мне милее не только из-за красноватого оттенка. Н-да, а в конце концов, если всё ладится, то серое однообразие оживёт и без цвета». И, помолчав, добавил: «Вообще-то я против цвета». Пауза. «Дышать должен камень-то».
Мне хотелось знать, случались ли какие-нибудь возражения со стороны епископа, поскольку все фигуры донаторов были светскими, слишком человеческими, без единого намёка на святость. Он зловеще усмехнулся и, немного помедлив, окольными словами дал мне понять, что охватившее все земли производство копий мадонн и святых, будь они вырезаны из дерева в алтаре или вытесаны в камне, ему давно наскучило. «Как возможно обрести среди всей это пестроты путь к Господу?» Епископ же, должно быть, доволен своими людьми, которые оживляют камень, и тем воодушевлением от него, которое дышит гневом, печалью, страхом, а иногда и маленькими повседневными радостями. «Если они глубоко набожны и стойки к страстям, им будет дарована благодать». У меня уже, было, зародилось подозрение, что Мастер из Наумбурга оказался переодетым вальденсом, что, возможно, из Франции, где он искал прототипы для своих скульптур, он приволок еретические идеи, как вдруг он поразил меня прыжком во времени, предвосхитив лютеровскую реформацию и её последствия. Он утверждал, что земная простота спасла скульптуры донаторов от оголтелого разрушения во времена бесчинств иконоборцев. «Ведь их особенно раздражало всякое барахло, связанное с мадоннами, и поповская чёртова возня со святыми — разнесли всё в клочья!» Он снова зловеще улыбнулся.
А потом и дочери ювелира взбрело в голову перескочить во времени в день сегодняшний. Будущая Ута Наумбургская крикнула: «Тут колы нету?» И я был рад, что смог угостить эту до ужаса простоватую девушку колой со льдом. Потом она сказала: «Мне пора. Ещё служба. Каменная месса перед собором». Она ушла, а я свернул свой стол с гостями.
Вскоре после того, как рухнула Берлинская стена, а вместе с нею всё, что разделяло, обещало перемены или грозило ими обернуться, я случайно встретил её снова, если верить, что случай — лукавый сводник. Не в Наумбурге, этом городке, который теперь можно было посетить без разрешения на въезд и без государственного контроля, — я увидел её перед главным входом Кёльнского собора, вернее, мне показалось, что там как будто стояла та самая девушка с утончённой верхней и полноватой нижней губой, что когда-то была натурщицей для Мастера из Наумбурга.
Я прибыл на встречу в редакцию Западногерманского радио, как раз поблизости от собора, и не упустил возможности, как обычно, на коротком пути к Дому радио поглазеть на летнюю круговерть у подножия собора; каждый раз возникает ощущение, будто вы попали на народное гулянье — такое беспорядочно пёстрое оживление царит на площади. И всё же она стояла погружённая в себя, так сказать, одиноко.
Подобные каменные мессы, стояния перед священными зданиями, были заведены с давних пор, не хочу сказать, что это была мода, которая отвечала всеобщему смятённому настроению — более того, не научно обоснованному, а простому предчувствию, вскормленному осознанием или предощущением возможного конца света. Одетые святыми или нищенствующими монахами, еретиками или инквизиторами, часами стояли тогда молодые люди без движения перед церковными порталами или в стороне. Обычно они оживали ненадолго — сделать смиренный жест благословения, чтобы окаменеть вновь.
Она же стояла прямо, на небольшом расстоянии от Кёльнского собора как Ута Наумбургская, так что все прихожане или простые туристы, желавшие попасть внутрь собора, проходили мимо неё слева и справа. От короны до кончиков туфель она была вся в сером. И лицо её, и левая рука, державшая складки плаща, были либо покрыты серой пудрой, либо равномерно затонированы спреем с серой краской. Постаментом служила маленькая коробка, тоже закрашенная серым и оттого выглядевшая каменной. Будь у меня в руках фотография оригинала, я мог бы сравнить: как и у статуи Уты, на указательном пальце левой руки у неё было кольцо, обманчиво сходное с каменным украшением. Складки плаща ниспадали просто, не копируя ранне- или позднеготический стиль. Только там, где левая рука схватила ткань, падение было приостановлено. Но под рукой, на которой было кольцо, ткань вновь спадала к земле. И как на всех известных фотографиях, скрытой под плащом правой рукой она высоко поднимала его ворот, так что он укрывал щёку и подбородок, часть шеи и скрывавшуюся под короной льняную повязку для волос. Я был уверен: зубчатую корону она носила с достоинством.
И её взгляд. Над скруглённым волной воротом плаща её сероглазый взгляд на окаменевшем лице устремлялся поверх всего и вся вдаль. То, что она могла видеть, казалось пугающим, если не преисполненным ужаса. Ничто не раздражало её — ни фотографирующие туристы, ни молодёжь на роликах и скейтах, которая в основном держалась на почтительном расстоянии, но порой нагловато-рискованно объезжала её. Стайка японок и японцев несколько раз поклонилась окаменевшей женщине, а потом они всей группой сфотографировались с нею.
И всё же никто не подходил к ней слишком близко. Всех она держала на расстоянии. Так же в стороне ожидала добрых пожертвований старая жестяная мисочка. Пока я наблюдал, монеты, позвякивая, падали туда снова и снова. Мне даже показалось, что я увидел валюту: немецкие марки и голландские гульдены, и в придачу — пятидолларовую купюру. Очевидно, так она зарабатывала на жизнь. И, судя по всему, прожить на это было можно. Всё время, что я стоял рядом, она не позволила себе ни одного случайного жеста, который бы нарушил её оцепенение. Мне стоило некоторого усилия, но всё же я бросил две марки в миску, подошёл ближе, ещё ближе, потом совсем вплотную к ней и тонко прошептал, словно хотел напомнить об угощении, поданном в гостях: «Привет, Ута. Я ваш давешний гостеприимец. Как насчёт небольшого перерыва и стаканчика колы со льдом в соседнем киоске?..»