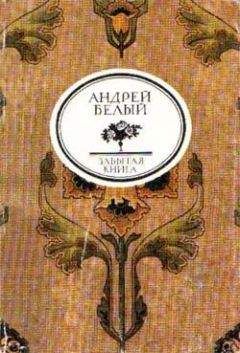Была у Степана Иванова еще и баллада «Ненила»: хорошо писал – сочинителем вышел; отец не его ли в младые годы таскал за вихры, таскал? Это правда, что волосы на голове у Степана Иванова потеряли не один клок; в голове же Степана Иванова все осталось по-прежнему – дурь опочила на нем и пребыла; так и махнул отец на сына рукой; молчал (сын огрызался): только выручку прятал.
Входя в лавку, столкнулись они с Евстигнеевым Яковом, с кровопивцем; тот сухо рукою тронул картуз и отвязывать принялся лошадь; сел в дрожки, да и был таков. В лавочке была духота; за прилавком Иван Степанов, с очками на носу, пощелкивал на счетах; примостившись к прилавку, дьячок да урядник похлебывали с блюдечка чай и дулись в засаленные картишки; при входе Дарьяльского дьячок поклонился, но фыркнул, урядник же, не глядя ни на кого, многозначительно протянул в нос: «Нде-с!… Так как же? Виннового моего валета вы да хрестями?»
– А хрести – козыри! – фыркнул опять, ни к селу ни к городу, дьячок; Дарьяльский понял, что только что перед тем речь шла о злополучной пощечине, что Евстигнеев Яков уже все рассказал: пойдет теперь гулять по селу пощечина; назло еще вот синяк вскочил; густо, густо он покраснел: они примостились к окну, и Степа нажаривал теперь ему в ухо, потягивая из бутылочки:
Увы, скучно, увы, грустно,
Увы, радости нигде!
Куда взор мой не мчится,
Вижу слезы везде.
Дарьяльский решил претерпеть все, чтобы Степа свел его к той, к рябой бабе: голова у него трещала и сосало под ложечкой; он думал: «лимончика бы теперь».
– Нде, бубе – козыри! – раздавалось сбоку, и опять фырканье, шепот, промеж себя восклицанья: поделом… Не мути народ! А Степа в уши зажаривал:
По полу катался,
По дивану ёрзал,
По печи метался,
По постели ползал…
– Существуют ли козыри сами по себе? – глубокомысленно провздыхал дьячок, сдерживая зевоту; Иван Степанов продолжал щелкать на счетах; в окне жужжал шмель.
В лесу меж древ охотник отдыхает,
А мысль его блуждает вдалеке, –
запузыривал Степа, опоражнивая бутылочку.
Вошли три мужика: ражий, рыжий и с сипотцою (с сипотцой, впрочем, все трое); когда ражий издал звук, напоминающий «кха», рыжий – «тьфу» и с сипотцою «хрплю», тогда ражий просипел: «гвоздочков»; рыжий просипел: «табачку»; просипел и третий мужик – «сахарку бы!» – «Гвозди, сахар, табак…» – отщелкал на счетах Иван Степанов.
Собирая гвозди, почесался ражий: «Столяр-то в городе». «Аграмадные, батя, у него дела!» – почесался рыжий, забирая табак; а третий, почесываясь, просипел: «Сехтанты, вот оно что!» – и схватился за мешок сахарного песку.
– Кха! Тьфу! Хрплю! – и мужики вышли. Дарьяльский взглянул в окно: в коноплю была
протоптана тропочка. Увлекая Степу из лавки, он умолял: «Степа, сейчас бы да к ней»… В голове его делалось Бог знает что; с перепоя оба шатались из стороны в сторону.
– Нельзя, милый человек, – заверял его Степа, совершенно пьяный: – Да ты што? Да я што? Опохмелиться бы…
Ну? Да ничего; опохмелялись до вечера: а Катя, а Феокрит, а душевная его глубина? Какая там Катя, и какой Феокрит, когда голову ломит, и там, в голове, когда заработали, по крайней мере, двадцать вербных трещоток!
Как вышел из чайной, так и засел в коноплю; проходила тут попадьиха:
– Что это вы, Петр Петрович, не в Гуголеве? – плутовато она посмотрела на него. – Заходили бы к нам; мой поп нынче с утра в Лихове… Ай, ай, ай, что это у вас на щеке – синячок?… До свадьбы заживет! – И пошла.
И он не помнил, как на небо взошел месяц; и то не месяц: спьяну казалось ему, что это там кусочек лимона какой-то.
Ангелочки, резные оконца и крыши домов уже серебряным отливали блеском, и отливали блеском лужи, и густая роса уже налилась в коноплянике; с ведрами красная баба издали проходила на пруд, черпала воду и уже шла обратно, когда с ведрами ей навстречу проходила синяя баба; черпала воду и уже шла обратно, когда ей навстречу пошла с коромыслом желтая девка с засученной юбкой; но ту нельзя уже было во тьме никак различать; будто канула в пруд; только прибрежные кустики долго еще качались потом и оттуда по росе раздавался и смех, и звонкие поцелуи.
О том, что говорили люди, и о том, кто ездил на велосипеде
О том, как героя моего изгнали из Гуголева, долго еще покалякали в Целебееве, а он будто в воду канул; правда, что вокруг села вился да вился след его болотных сапог; правда и то, что вещи его тут же Игнат перетащил из Гуголева на буренке к Шмидтиной избе, да у самого барина Шмидта носу Петр не показывал, а расположился себе, как восвояси, в деревне Кобылья Лужа, где у него довольно-таки паршивое завелось кумовство и где к нему таскалась всякая шваль. Только вот уж доброю молвью теперь мой герой не блистал на целебеевской улице.
За.днями сменялись дни, что ни день, – на селе толки; в день голубой, июньский, над далеким ельником дымный выкидывался столб: то пожар; в этот день под самым под Дондюковом обшаривали окрестность; арестовали студента; все у него поразрыли, да только всего и нашли, что кулечек испанского лука, редкостного в наших местах; лук съели, студента же засадили на хлеб и воду; и в этот же памятный день Евсеич, нахлобучив картузик, поплелся из усадьбы в наше село – с письмом; здесь у нас все кого-то искал, да так и ушел ни с чем; с Шмидтином барином все пере-шушукивался: ну, и за ним дозирали: тот, другой, третий приваливал к лавочке; потому – как же, лавочка у нас, можно заметить, – что клуп: кто же, зайдя в Целебеево, хотя бы всего на мгновение, не забежит в лавочку? В лавочке, где Степа только что запрятал между товара пук полученных прокламаций, хрыч посидел, пожевал колбаски и, снявши картузик, покрякивал, что вот, мол, то-то у них и так-то, а барышня убивается, плачет; и всего час уже спустя говорили все, что вот, мол, в Гуголеве то-то и такого, а барышня-де убивается, плачет; попадья же решила, что в Гуголеве не была она давно, и что сию же минуту туда поедет: «Брось ты это, голубка», – урезонивал ее поп.
Вот что произошло в голубой день июньский.
Потом был облачный день – громный, пятнистый; в этот день опять замелькал между изб картузик Евсеича; в этот день Степа бегал в Кобылью Лужу со странными снюхиваться людьми, и они ему расписывали про то, что «аслабаждение» народа приходит через Дух Свят, и что есть-де люди такие, которые тайно того ожидают пришествия Духа на землю; чрез то же лицо он узнал, что уже вся, что ни есть округа судачит про то, что в Гуголеве происходило то-то и так-то, а барышня-де себя сама чуть было не порешила, да добрые люди еще пока что отсоветывают ей такой шаг.
Что твоя раскаленная печь, – и такой выдался день: в этот день попадьиха, во всем в розовом, с нацепленной шляпкой, с продетыми сквозь уши сережками зашуршала юбкою в Гуголево, да ее, знать, не приняли там; в пику же ей в тот же самый день туда заходила учительша и будто бы ее приняли: захлебываясь, рассказывала по возвращении, как всякими ее там угощали сластями, Катерина же Васильевна как плакала у нее на груди, потому-де извергу человеческого рода она свою вверяла судьбу; в этот день на учительшу попик с досады плевался и чесал нос, да что: только доносик бы ее поприжал, потому что – факт явный: учительша и вралиха, и вредный субъект.
Что твоя раскаленная печь, – был еще такой день: в этот день ахнуло Целебеево, да так, что, когда уже вызвездилось небо, все стояли и тарабарили кучки: о том, что у Граабеной баронессы похищены «приллианты», но что следствия не возбуждают, потому – явный факт: похититель Дарьяльский; другие же крестились на том, что все, что ни есть происшествий, – тайный имеет смысл – и вот какой: Чижиков-де генерал шутки изволит шутить; но и в этот день Евсеич таскался по селу, мотал головой, все кого-то выслеживал: так и убрался с шишом.
Зеленый же луг той порой отжелтел курослепом; выкинулась, забагрянилась липкая на лугу гвоздика, забелела ромашка и из овсов на дорогу просунулся розовый куколь…
Вот и все, что было памятного в эти дни – да: что ж это я про самое главное приключение ни слова? Пардон-с: запамятовал! Это, конечно, про велосипед: ах, что бы это значило, чтобы такое случилось с попом? Но прежде всего про велосипед (это у попа был велосипед); не у этого попа, а у того, который – ну, да вы уже сами догадываетесь, о ком идет речь, а велосипед, я вам доложу, прекрасный: молодец поп, что у него есть такая машина: игрушечка-велосипед – новенький, аккуратный, с тормозом, отличнейшая резина и весьма успешный руль-с! Выскочил поп из-под навеса без шапки, в одном подряснике – прыг: да и был таков: только пыль столбом на дороге: маленький-маленький попик, будто сморчок! Очки это съехали на самый носа кончик-с (очки золотые), шапка черных волос копной, крест на сторону, черная борода почитай на самый легла руль, а спинка – дугой… Ну-ну!… Смотрят люди, как зажаривает себе поп на велосипеде по проезжей дороге с рулем и в ветрилом надутой рясе, из-под которой взлетают рыжие голенищи болтающихся с подвернутыми полосатого цвета штиблетами ног на забаву прохожим: только попыхивает пыль в их разинутые от удивленья рты, а верстовые столбы да деревни мимо попа, мимо – так и летят: сама большая дорога тронулась с места и понеслась под велосипед, как будто она была большой белой лентой, быстро разматываемой на одной стороне горизонта и сматываемой на другой. Так-то промчался поп на велосипеде к Целебееву к самому, с трезвоном, срамом и перцем; соскочил у домика отца Вукола, да прямо к нему.