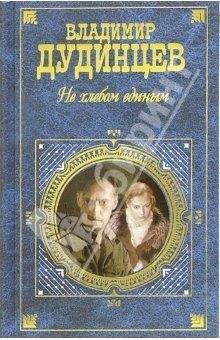Ознакомительная версия.
— Один из этих муравьев, — монотонно заговорил Дмитрий Алексеевич, сдерживаясь, чувствуя, что и в нем закипает вражда, — один из этих муравьев забрался все-таки на березу, повыше, и позволяет себе думать за всех, решает, что народу к чему, а что ни к чему… Вы спуститесь с березы, муравей! — заревело вдруг в нем что-то. — И помогите лучше мне тащить в муравейник гусеницу, которая раз в десять тяжелее меня!..
— Писать вам ответ по всей форме? — Дроздов сел за стол и замолчал, растирая пальцами желтый лоб, выжидая. — Или вы удовлетворитесь этой з-задушевной беседой?
— Пишите по всей форме, — сказал Дмитрий Алексеевич.
— Вы хотите бороться за свою г-гусеницу? — теперь он был холоден. Давайте, давайте. Поборемся.
Он торжественно встал и протянул Лопаткину руку.
Через два дня Дмитрий Алексеевич получил письмо от заместителя начальника технического управления, подписанное лихим и неразборчивым росчерком: «Ваша жалоба доложена заместителю министра тов. Шутикову и отклонена, как неправильно освещающая ход и решение технического совета Гипролито».
Дмитрий Алексеевич знал заранее, что ответ будет именно таким, но все же, прочитав его, побледнел и, выйдя в уборную гостиницы, полчаса курил там свой сибирский самосад. Потом вернулся и, злобно поглядывая по сторонам и угрожающе шепча, написал два письма — ответ Шутикову и жалобу на имя министра.
И с этого момента у него словно началась новая жизнь. С утра, подрезав бахрому на рукавах кителя и в который раз уже выругав себя за то, что отказался в Музге от дроздовского костюма, наметив заранее маршрут, он отправлялся в поход. Широким, нервным шагом он почти бежал через всю Москву на прием в какой-нибудь комитет, или комиссию, или управление. Мозг его при этом не дремал, а, наоборот, усиленно работал, вызывая к изобретателю на расправу то улыбающегося, ласкового, одетого в золотое сияние Шутикова, то самодовольно закрывающего глаза Дроздова, то наивно удивленного, женственного Фундатора. И Дмитрий Алексеевич мгновенно уничтожал их всех. «Что же они говорят между собой обо мне?» — думал он и шептал: «Неприспособленный, труха! Нет пробивной силы! Хотел бы я хоть на час превратиться в кого-нибудь из них, посмотреть, что они думают. Видят ли, отчего могут гореть у человека глаза? Неужели видят, что я прав? Но тогда это — преступление!.. А если они не видят — значит дураки? Как же они сидят там, этот Шутиков, этот Дроздов?»
Иногда Дмитрий Алексеевич вдруг останавливался на улице, словно налетев на столб. Это вырастало перед ним неожиданное сомнение. «Неужели не прав я?» — думал он, бледнея, и лез в карман за кисетом. Закурив, с опущенной головой, он медленно шел дальше, обдумывая все стороны своего дела. «Но ведь академик Флоринскнй с самого начала был за мою машину. И ведь еще были отзывы… А Галицкий — это же известный, серьезный работник! Во всяком случае, опытный образец построить должны. Должны! Почему же они не строят? Государственную копейку жалеют?» — И, подумав об этом, Дмитрий Алексеевич неожиданно начинал смеяться, удивляя прохожих. Он не мог удержаться от этого горького смеха, потому что вспомнил машину Авдиева, которая была построена, чтобы принести миллионные убытки. Не машина, а первобытное приспособление — и даже пятнышка не посадила на солидное имя этого Колумба!
Мысли его всего яснее были ночью. Он ворочался на своей кровати и по нескольку раз — в полночь и под утро — выходил покурить. Он приучил себя записывать мысли и к концу каждой недели составлял из своих записок одно или два письма с ядовитыми намеками на некоторых особ, «превративших аппарат государственного учреждения в бюрократическую крепость», или с разоблачением круговой поруки монополистов, «уничтожающих живую мысль, рожденную в народе». Написав на конвертах адреса комитетов или редакций, он бросал их в почтовый ящик, и тут же разгоряченный ум подсказывал новый верный ход, новое письмо.
Бросая в лицо воображаемым Шутикову или Дроздову свои лучшие, логически связанные доводы, Дмитрий Алексеевич все чаще останавливался, чтобы перевести дыхание, и с удивлением щупал грудь — там, где сердце, и на спине — где лопатка. Чем ярче была его мысль, тем сильнее давила его сзади в сердце незнакомая, растущая боль.
Он записался в поликлинике на прием к врачу и однажды утром, испуганный, вошел в белый кабинет, пахнущий валерьяновыми каплями. Он сразу же торопливо и подробно начал рассказывать врачу о своих болях. Две медсестры оглянулись на него, а врач — старая женщина, с желтыми, крашеными волосами, заполняя карточку, несколько раз сказала ему: «Не надо волноваться! Товарищ, успокойтесь!» Прослушав его сердце и легкие, она обернула его голую руку черной полоской материи, от которой шли трубки к манометру и резиновой груше. Стала накачивать воздух, красная жидкость поднялась в трубке манометра и затем мягкими толчками стала опадать.
— Молодой челове-ек, — протянула женщина, следя за жидкостью. — У вас повышено давление. Вам надо спать и гулять, гулять и спать, и ни о чем не думать. Кушайте фрукты, мяса и вина не употребляйте ни в коем случае. Эта вещь может кончиться очень плохо — не шутите с ней.
И Дмитрий Алексеевич с этого же дня приказал себе забыть и забыл о том, что он автор чего-то. Теперь он два раза обходил город по определенному маршруту — каждый раз по пять километров. После прогулки он глотал несколько пилюль и ложился спать, а если его ждало письмо, то письмо это летело нераспечатанным в чемодан, под кровать.
Этот режим продолжался дней десять, и дело с лечением, быть может, благополучно растянулось бы до месяца, но один случай многое изменил в судьбе Дмитрия Алексеевича. Однажды утром он шел по своему маршруту, просматривая по пути свежие газеты, расклеенные на деревянных щитах. Все было, как и вчера, все статьи проходили мимо его сознания, жестоко заторможенного на время нежданной болезни. Он переходил от газеты к газете, рассматривал по пути дома, читал вывески. И если ему попадалось что-нибудь вроде «Корсеты, грации и полуграции», он улыбался, потому что веселым вещам разрешено было входить и в больной дом. Так он шел, бездумно повинуясь своей новой ленивой привычке, останавливаясь около газет и ничего не читая, — и вдруг увидел на безразличном газетном фоне заголовок: «Шире дорогу новаторам!» Это была огромная статья, целый газетный подвал, и подписал ее не кто иной, как заместитель министра Шутиков!
Дмитрий Алексеевич удивленно улыбнулся, бегло просмотрел статью, сказал: «Ну-ну!» — и покачал головой. Он стал читать статью сначала и после первого же абзаца нахмурился и угрожающе зашептал: «Ч-черт… Ах, подлец… Нет, нельзя так оставить!» Потом он перебежал улицу, купил в киоске эту газету и широким шагом понесся в гостиницу, останавливаясь время от времени, чтобы записать удачную мысль.
В номере он сел за стол и весь день, до позднего вечера, писал письмо редактору газеты.
«Почему, — писал он, — почетная возможность обобщать достижения нашей техники на страницах вашей, всеми уважаемой газеты, почему эта роль предоставлена тов. Шутикову? Может быть, статья была заказана ему, как руководителю одного из больших разделов новой техники? Но опросите тысячу изобретателей — тех, кто имел дело с тов.Шутиковым, и я уверен, 95 процентов из них скажут, что тов.Шутиков им не помогал, а лишь топил изобретения. Большой мастер напускать тумана, он обманул и вас, тов.редактор! „Только за прошлый год, — пишет он, — на предприятиях министерства было внедрено более четырех тысяч изобретений и рационализаторских предложений“. А спросите его, сколько им внедрено собственно изобретений, то есть таких новинок, которые в корне ломают старые процессы и требуют особого внимания со стороны начальства? Задав ему этот вопрос, вы сразу поймете, почему он объединил рационализацию с изобретениями: он поступает, как интендант, который заменил мясо сухарями и прикрыл эту операцию словом „продовольствие“. Автор хорошо сказал в статье о преимуществах поточного производства и центробежного литья. Но ведь еще с 1944 года…» — дальше на двенадцати страницах шло подробное описание мытарств Дмитрия Алексеевича.
«По его вызову я оставил работу, — писал он поздно вечером, — и приехал в Москву. И здесь от него же я получил отказ; на средства, отпущенные для постройки моей машины, он строит машину Авдиева, которая ничего, кроме убытков, не принесет. Сейчас я снова по его вызову нахожусь в Москве. Недавно тенденциозно подобранный совет забраковал мой проект. Я написал шесть писем тов. Шутикову, сообщая обо всех безобразиях, и не получил никакого ответа. Он обещал принять меня, я сделал уже 16 попыток добиться этого свидания, но принят не был, не был даже соединен и по телефону».
Дмитрий Алексеевич решил сам отнести письмо в редакцию. Начистив пуговицы и ботинки, он точно в два часа дня вошел в розоватое здание газетного комбината. Он сразу почувствовал здесь особый запах типографии, похожий на запах керосиновой лавки. Вместе с двумя фоторепортерами и курьершей, которая несла мокрые газетные листы, он вошел в лифт и поднялся на пятый этаж. Отдел писем был еще заперт. Дмитрий Алексеевич спросил у курьерши, когда его откроют, и получил непонятный ответ: когда окончится летучка.
Ознакомительная версия.