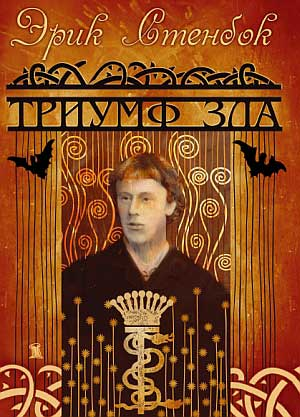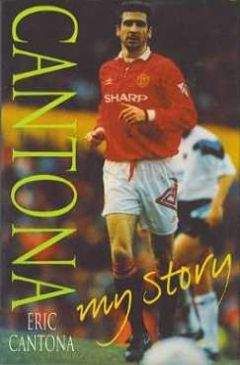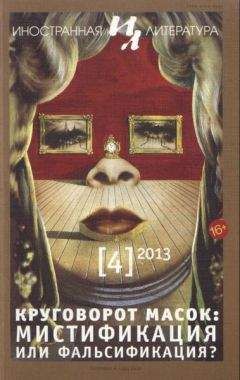я же сказала тебе оставаться в номере: папа повидался бы с тобою позже.
Мальчик отвечал голосом, чье звучание странным образом напоминало органный vox humana:
— Папочка, можно я побуду с тобой? Я обещаю хорошо себя вести и совсем не разговаривать.
— Даже не знаю, — ответил мужчина. Тем не менее, мальчик остался с ним, усевшись на табуретку рядом.
Табльдот продолжался обычным образом. После супа нам подали рыбу, за которой последовало нечто странное под названием «ростбиф» и курица, сменившая свое обычное прозвание на «Poularde au cresson» [44]. Компания оживленно беседовала; признаться, я была удивлена, услышав, как наш печальный знакомый отпустил несколько шутливых замечаний.
Тем не менее, мне было интересно, в каких отношениях состоят эти люди. Было странно, что ребенок был почти или даже совсем не похож на отца; внешностью и цветом волос он походил на женщину, но данное сходство носило родственный характер, выражением лица он совершенно от нее отличался. С другой стороны, мальчик (забыв о своем обещании, он охотно вступал в разговор) называл женщину «матушка», а не «мама», в то время как печального господина он называл «папой». Второго мужчину он называл «дядя Альфред». Но тот был не похож ни на женщину, ни на печального господина: был он ее брат или его? Их ли родственник он вообще? Так или иначе, они говорили по-английски: и, дождавшись «Bavaroise de chocolat a la creme» [45], мы разговорились с ними, как обычно случается в маленьких гостиницах, и когда нам подали кофе — вернее, еще не подали (забыла упомянуть о своем ирландском происхождении), мы перешли в то, что зовется «салон для бесед». Там стояло фортепьяно; мальчик подбежал к нему и с мольбой повернулся к отцу.
— Папа, я не играл уже четыре дня. Можно, я чуточку поиграю — совсем чуточку?
Того это явно смутило, и он произнес:
— Возможно, дамы будут против.
Разумеется, мы — боюсь, довольно малодушно — заявили, что не возражаем. Но человек, которого назвали Альфредом, заверил нас:
— Это не так уж плохо. Он не станет играть «Сон Руссо» или «Битву под Прагой». Мальчик играет совсем недурно.
Более чем недурно! Мальчик сел за инструмент и заиграл. При первых звуках глаза его вдохновенно загорелись: точно божественный фиолетовый свет брызнул из них. Сейчас он был скорее похож на серафима в славе, чем на преклоняющегося ангела: и как он играл! То была странная и сложная импровизация, вариация на тему, которая показалась мне очень знакомой. Внезапно дочь наклонилась ко мне и прошептала:
— Мама, мы уже слышали эту мелодию раньше. Помните тот концерт в Брюсселе, на котором солировал Сибрандт ван ден Вельден? В программке эта пьеса называлась «Импровизированной вариацией на собственную тему». Но как о ней узнал этот ребенок? Мы слушали эту музыку так давно: в ту пору его еще на свете не было.
И тогда я вспомнила, что лет десять назад некий молодой музыкант по имени Сибрандт ван ден Вельден действительно пользовался популярностью. Меня поразило, что Дороти, моя дочь, которую я считала не особенно сообразительной (и, кстати, совершенно напрасно), сохранила в памяти то, о чем она слышала, когда ей было столько же, сколько мальчику, играющему сейчас на фортепьяно.
У нас определенно не возникло возражений.
На лице мужчины появилось выражение экстатического восторга — но вовсе не от игры сына. Я заметила (а мой покойный муж научил меня наблюдать за каждой мелочью), что на его лице отразились какие-то мучительные воспоминания.
Затем женщина произнесла:
— Право, Сибу, тебе пора в постель.
Мальчик не пожелал спокойной ночи матери и мужчине, которого звали Альфред: лишь своему отцу, при этом горячо его поцеловав.
Лицо того снова расцвело, и он начертал знак креста на лбу мальчика, который выскользнул из комнаты так бесшумно, что я не заметила момент его ухода. Женщина произнесла:
— Мы с Альфредом собираемся прогуляться по городу. Вы не хотите присоединиться к нам?
— Я тут уже все осмотрел, — ответил тот. — Так что оставайтесь, детки, наедине друг с другом.
Это было сказано вполне добродушно. Но я не смогла отделаться от ощущения, что в этом всем было что-то странное. Он попросил разрешения закурить; я разрешила и сказала дочери, что ей тоже пора бы отправляться спать. Таким образом, я осталась с ним наедине, как мне давно хотелось, чтобы удовлетворить свое любопытство и выяснить, кто он таков.
— Что ж, — отважилась я сказать, ибо из последующего знакомства выяснилось, что он был куда общительней, чем мне казалось прежде, — могу ли я спросить вас напрямую — каким образом вы попали сюда? Я всегда считала, что это мы открыли Остраке. До нашего появления здесь никто не слышал английской речи: и потом, первооткрыватели всегда противятся вторжению в их любимое местечко.
— Не знаю, когда вы открыли Остраке, — любезно отвечал он, — но думаю, что я открыл его задолго до вас, довольно случайно; я, видите ли, знавал кое-кого из местных. — При этих словах на его лице опять появилось то мучительное выражение, которое я заметила раньше: и тут же обратилось в привлекательную улыбку (я даже не предполагала, что он может улыбаться). — С моей стороны было очень нечестно привезти с собой жену: это место определенно не придется ей по душе.
Задумчиво он добавил:
— Но как бы я жил без моего ребенка?
С самой первой встречи он показался мне излишне сдержанным, но сейчас был, похоже, склонен довериться мне. Не раз мне говорили, что я вызываю у людей подобные чувства. Но вместо этого я сказала:
— Как прекрасно играет ваш мальчик!
— О, да, у него замечательный талант к музыке.
— А ведь еще совсем дитя! Можно спросить, у кого он учился?
— Самое необыкновенное, — отвечал он, — что мальчик ни у кого не брал уроков. Он не разбирает нот и вряд ли воспроизведет даже простую песенку вроде «Домика у леса». Однако, по общему признанию, играет он неплохо.
— Так уж и неплохо, — подхватила я, — играет он просто великолепно. Словно бы по вдохновению.
— Вдохновение, — повторил он. — Какой смысл вы вкладываете в это слово? Вы наверняка понимаете его по-своему и не верите в сверхъестественное или противоестественное. (Как он об этом узнал: неужели догадался, что я жена врача?) Он продолжал: — Мне кажется, что