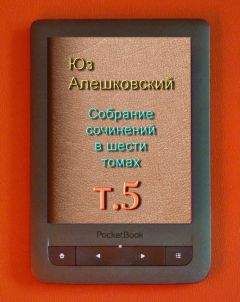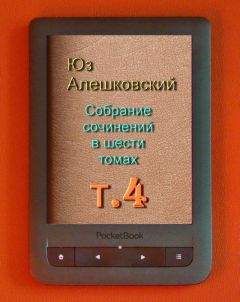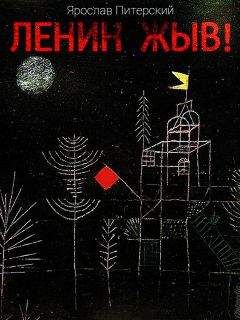– Невероятно и удивительно, – отвечаю, – по-вашему, внешность моя подпадает под самоубийство?
– Нет, что вы, таков теперь приказной порядок капитанитета пароходной компании: ордер выполнен, извольте расплатиться, а потом уж распоряжайтесь, с чего начать, на это у всех свой вкус, как выразился один белорус, голосуя за Лукашенко.
Хорошо, капитанитет херов, рассчитываюсь, огромные чаевые выразительно кладу в карманчик белого фартучка, что на самом у нее многообещающем передке, тем самым намекая на длинную дистанцию последних в жизни ласок, выкрутасов, поз, томлений и прочей камасутры.
Хорошо, стоп – так стоп, но я тут и не собирался порнографировать, а всего лишь фиксировал свое противоречивое состояние для вашей стенографии.
Что говорить, в последний раз все происходит у человека как надо и с большим аппетитом, он только сожалеет, что задолго до смертного часа не стал отправлять все свои нужды с подобной забубенностью и просто-таки лучезарным разочарованием в жизни, переходящим в уважение к смерти – тут тоже ни убавить, ни прибавить.
Таким образом, все было у нас хорошо с Франческой этой и даже прекрасно – и выпивка с закусью, и дальнейшая ненужность одежды, и глаза, и мысли, и вопиющая ненужность предохранилова, на котором она настояла и по-своему была права… потом заставила меня забыться родинка на левой у нее груди, которую густо намазал черной икрой типа пропадать – так с музыкой… более того, незаметно стал проваливаться куда-то и проваливаться… больше ничего не помню, ничего…
Буду краток, чего ж теперь растекаться по дереву? С первого взгляда на совершенно зря, скажу я вам, вновь возникшую в поле моего зрения жизнь – в ноздрю мне вдарила резкая вонь, каковая истекала из мусоропровода родного подъезда после недельного, с получки, запоя уборщика Задира Ахмедова, узбекского диссидента. Валяюсь весь в морской пене, как будто всенародно оплеванный шпион Пеньковский, только в трусах и на помойке пляжа, а не в Колонном зале. Нет при мне ни документов, ни бабок, что гораздо хуже смерти. Поздравляю, наконец-то, Бульд-Озеров, и тебя разогнали, прав был Сызмальский: ты – мандавошка, и это конец твоей карьеры на земле в должности человека.
Если, думаю, бросила меня за борт мразь флотилии этой отморозочной и я безжалостно прибит волной к берегу Турции, который и нахрен мне не нужен, то одним адом тут не обойдешься, тут такой придется люля-кебаб сжевать тухловатый, что мало не покажется.
Тело болит, ни рукой не двинуть, ни ногой, по-детски захотелось окрутить горлышко теплым шарфиком, мамой связанным, чтоб удавиться и больше ничего такого впоследствии уже не сознавать. Мне не то что берег турецкий, но мне и Африка ну нисколечки не нужна, и Крым в гробу я видел, который, не перестану переживать, сдали без единого, главное, выстрела, и Чечня с сионизмом, и нефть – ничего мне от вашего застранного мира не нужно, кроме смерти без всякого диагноза…
Тут сделайте прочерк, потому что вновь я впал в отключку, словно бы Буратино, ошибочно сунутый папой Карло в буржуйку… затем загудели сирены… видимо, полиция, подползаю к ним на карачках, весь дрожу, с тихим стоном, верней, из последних же сил спрашиваю, как учили на курсах повышения обслугкультуры:
– О, май Год, спикинг, экскьюз ми, инглиш, плиз, ор нот?» – а один мент другому за меня отвечает менту: – Это точно его рыло сраное в обоих паспортах, которое в срочном розыске Интерпола, не ссы, нам теперь дадут оплачиваемый отпуск, заключай сукоедину в наушники, то есть в наручники, смотри, чтоб бошку об стену не размозжил, хер нам тогда, а не премия…
После этих его русских слов и родного нашего разгильдяйства обдало меня такой духовностью, что я заплакал и только бормотал безостановочно:
– Если бы вы только знали, как мало нужно человеку для полного счастья – жить и преданно служить правосудию. – Весь дрожу поперек и трепещу вдоль, отчего зуб на зуб не попадает, но бормочу: – Если бы вы только знали… если бы вы только знали, май диар бразерс энд систерс…
Надеюсь, Ваша Честь, теперь-то дошло до всех вас, что от случившегося поехала моя извилина сикось-накось?..
Живу, хлеб с водой жую – человеку мало надо. Поместили в камеру, подкормили, подлечили, вывели на очную ставку с той пойманной официанткой, с которой вкусил сладость предсмертного ужина и дальнобойного секса, спасибо, говорю ей, что ты, хоть ты и сволочь отморозочно перестроечная, вдобавок повязанная с бывшим моим начальством с целью мочилова того, кто все досконально знает, – но ты, мразь, возобновила во мне, обкраденном тобою до нитки, желание жить в образе важного свидетеля обвинения, взятого под защиту федерального закона о перелицовке таковых. Так я обвинял врагов и преследователей.
Ноу, ноу, ноу, это никакая у меня не мания, а на вторые сутки я уже логично докладывал тому самому, прилетевшему из Москвы полковнику Лаэрту Гаврииловичу, которым, сам того не зная, завербован был в операцию его Службы, что этим свидетелем могу являться только я, и никто другой. Вот какова сила китайского незнания. И он перед лицом закона обещал мне суд порядочных заседателей плюс пожизненную защиту за важность показаний, приведших к искоренению всей сети коррупции в Шереметьево и в других воздушных воротах мира.
А если вы говорите, что ни на какой я не служил таможне, а просто растратил казенный лимон совместного предприятия «Базедов и дочери», то лечите меня, повторяю, от преступной вашей ошибкофрении, лечите, пожалуйста, кто вам мешает, лечите и узнавайте, откуда вся эта у меня в черепе фантазия – не ветром же ее, в конце-то концов, надуло. Лечите, лечите и лечите, как говорил Ельцин, все-таки у нас тут с вами сегодня свобода и дальнейшая, понимашь, жепепенака всей страны, а не роман, ударять на первом же слоге, «Иосиф и его братва», который – спасибо ей большое – Ильинична притаранила с воли в порядке духовной близости со мной и в качестве залога будущих физических удовольствий с моей перелицованностью. Сам роман тиснул… был то ли русским, то ли литовцем, звали его Фома… не прерывать, я сказал, – иначе сорву на вас на всех, понимаете, зло и даже поступлю так, как почему-то не поступил Сам Создатель, то есть возьму и заберу свое Слово обратно, чтоб больше ничего такого тут ни с кем не происходило… не перебивать… да, не было в том рома-не ни единого словечка про историю вампирства Иосифа Виссарионовича и членов его политбюро, немало кровушки попивших у всех народов матушки-России. Естественно, тогда пришло скорей всего в поехавшую мою баш-ку, что в романе «Иосиф и его братва» речь пойдет насчет автобиографии «Роллс-Ройса»… Извините, Ваша Честь, за оговорку извилины много чего такого еще переживающего Бульд-Озерова, ибо имелась в виду биография общеизвестного певца Кобзона, типа «Жизнь замечательных людей»… увы, тот роман был только про древнейшего, – таких больше не было и нет, – одноименного и очень крутого красавца-еврея, родными своими братанами посаженного в самую что ни на есть натураль-ную, все углубляемую разной сволочью и углубляемую яму… все, я сказал, все, с вашего позволения кончаю!.. затем Всевышний его реабилитировал, и тогда он, вроде Гуся с Березой, сделал исключительную карьеру в Египте, что, видимо, ожидает и меня, когда отбуду на одно из всеми вами предложенных, – главное, замкнутых, к тому же отлично охраняемых от врагов и преследователей по особо важным делам, – местожительств. А теперь, Ваша Честь, разрешите закруглиться, как не раз уже в данной палате декларировала печально известная кривая линия, до сих пор мечтающая превратиться в заколдованную окружность земного шара, если не всей видимой и невидимой, что одно и то же, нашей с вами Вселенной.
К сему: важный субъект справедливейшего из обвинений, предъявлявшихся когда-либо в истории полностью неповинному в них человеку, он же Инкогнито, единственный сын папы Карлы и мамы Мальвины.