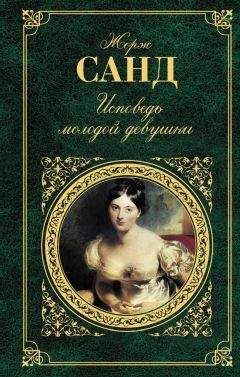Дорогая Тереза, мой милый Палмер, вы мои ангелы-хранители. Вы принесли мне счастье. Благодаря вам я понял наконец, что родился не для такой жизни, какую вел. Я возрождаюсь, я чувствую, как небесные флюиды спускаются в мои легкие, жаждущие чистого воздуха. Все мое существо обновляется. Я буду любить!
Да, я буду любить, я уже люблю!.. Я люблю прекрасное и чистое дитя, которое еще ничего не знает об этом и возле которого я испытываю неизъяснимое наслаждение хранить тайну моего сердца, казаться и быть таким же наивным, таким же веселым, таким же ребенком, как она сама. Ах! Как они прекрасны, эти первые дни зарождающегося волнения! Разве нет чего-то возвышенного и пугающего в этой мысли: я предаю себя, другими словами — я себя отдаю! Завтра, быть может — сегодня вечером, я уже не буду принадлежать себе?
Радуйся, моя Тереза, такому завершению печальной и безумной юности твоего бедного сына. Скажи себе, что это обновление существа, которое казалось погибшим, а теперь, вместо того чтобы барахтаться в тине, раскрывает крылья, как птица, — и все это дело твоей любви, твоей доброты, твоего терпения, твоего гнева, твоей строгости, твоего прощения и твоей дружбы! Да, нужны были все перипетии этой интимной драмы, в которой я был побежден, чтобы заставить меня открыть глаза. Я твое создание, твой сын, твой труд и твое воздаяние, твое мученичество и твой венец. Благословите меня оба, друзья мои, и молитесь за меня, я полюбил!»
Все письмо было написано в таком духе. Получив этот гимн радости и благодарности, Тереза впервые почувствовала, что и ее счастье полно и прочно. Она протянула обе руки Палмеру и сказала ему:
— Ну, так когда же и где мы обвенчаемся?
Было решено, что свадьба их состоится в Америке. Палмер был бесконечно рад, что сможет представить Терезу своей матери и что та будет присутствовать при свадебном обряде. Мать Терезы не могла надеяться на счастье быть на этой церемонии, даже если бы ее дочь венчалась во Франции. Она была вознаграждена за это лишение радостной уверенностью в том, что Тереза помолвлена с человеком разумным и преданным. Она терпеть не могла Лорана и всегда дрожала при мысли, что он снова станет мучить Терезу.
«Юнион» готовился к отплытию. Капитан Лоусон предлагал взять с собой Палмера и его невесту. Для офицеров корабля было бы настоящим праздником совершить переход, имея на борту эту всеми любимую пару. Молодой мичман, стараясь загладить свою дерзкую попытку, держал себя по отношению к Терезе в высшей степени почтительно и выражал ей самое искреннее уважение.
Когда Тереза уже приготовилась к тому, чтобы восемнадцатого августа сесть на корабль, она получила письмо от матери, которая умоляла ее заехать в Париж, хотя бы на одни сутки. Она тоже должна была приехать туда по семейным делам. Кто знает, когда Тереза сможет вернуться из Америки? Другие дети не принесли счастья бедной матери, потому что, по примеру недоверчивого и раздражительного отца, относились к ней непочтительно и холодно. Поэтому она обожала Терезу, которая одна из всех детей была ей нежной дочерью и преданным другом. Она хотела благословить и обнять ее, быть может, в последний раз, потому что чувствовала себя преждевременно состарившейся, больной и усталой от жизни, в которой не было ни душевного покоя, ни нежной любви.
Палмера сильно раздосадовало ее письмо, хотя он и не хотел в этом признаться. Он, как будто всегда охотно уверявший Терезу в своей прочной дружбе с Лораном, все же беспрестанно мучился тревогой, какие чувства могут проснуться в сердце Терезы, когда она снова его увидит. Палмер, конечно, сам не отдавал себе отчета в своих опасениях и заявлял, что совершенно спокоен, но он ясно ощутил эту тревогу, когда пушка американского корабля разбудила эхо вокруг бухты Специи своими прощальными залпами, повторявшимися весь день восемнадцатого августа.
При каждом залпе он вздрагивал, а при последнем так сильно сжал руки, что хрустнули пальцы.
Тереза удивилась. Ей казалось, что с того времени, как он приехал в эти края и объяснился с нею, он был совершенно спокоен.
— Боже мой, что же это такое? — воскликнула она, пристально глядя на Палмера. — Что у вас за предчувствие?
— Да, верно, — поспешно ответил Палмер, — предчувствие… Оно относится к Лоусону, моему другу детства. Не знаю, почему… Да, да, это предчувствие!
— Вы боитесь, что с ним случится несчастье в море?
— Может быть! Кто знает? В конце концов, слава богу, вам ничто не угрожает — ведь мы едем в Париж.
— «Юнион» заходит в Брест и остановится там на две недели. Мы сядем на корабль там?
— Да, да, конечно, если до тех пор не случится несчастья.
Палмер оставался печальным и озабоченным, а Тереза и не догадывалась, что в нем происходило. Да и как могла она догадаться? Лоран был на водах в Бадене. Палмер это прекрасно знал; Лоран тоже собирался жениться, он уже написал им об этом.
Они уехали на следующий день в почтовой карете и, нигде не останавливаясь, вернулись во Францию через Турин и гору Сени.
Это путешествие было необыкновенно печальным. Палмер всюду видел дурные предзнаменования; он признавался в суеверии и малодушии, совсем не свойственных его характеру. Он, всегда такой спокойный, такой нетребовательный, не сдерживаясь, впадал в необузданный гнев на кучеров почтовой кареты, на дороги, на таможенных чиновников, на проезжающих. Тереза никогда не видела его таким. Она не могла удержаться и выразила ему свое удивление. Он ответил ей какими-то незначительными словами, но с таким мрачным лицом и с такой заметной досадой в голосе, что она испугалась его, а значит, и своего будущего.
Есть люди, к которым судьба неумолима. В то время как Тереза и Палмер возвращались во Францию через гору Сени, Лоран возвращался туда через Женеву. Он приехал в Париж за несколько часов до них, терзаемый мучительной заботой. Он наконец уяснил себе, что для того, чтобы обеспечить ему возможность путешествовать в течение нескольких месяцев, Тереза отдала в Италии все, что у нее тогда было; он узнал (потому что рано или поздно все узнается) от одного человека, проезжавшего в то время через Специю, что мадемуазель Жак жила в Порто-Венере в крайне стесненном положении и плела кружево, чтобы платить за комнату шесть ливров в месяц.
Униженный и терзаемый угрызениями совести, рассерженный и печальный, он хотел выяснить, каково теперь положение Терезы. Он знал, что она слишком горда, чтобы принять деньги от Палмера, и не без оснований предполагал, что, если ей еще не заплатили за ее работу в Генуе, ей пришлось продать свое имущество в Париже.
Он помчался на Елисейские поля, содрогаясь при мысли, что незнакомые люди поселились в этом дорогом ему домике, к которому он всегда приближался с сильно бьющимся сердцем. Так как швейцара не было, ему пришлось позвонить у калитки садика, не зная, кто откликнется на звонок. Он был далек от мысли, что Тереза выходит замуж, не подозревал даже, что она теперь свободна и может располагать собой. Последнее письмо, в котором она писала ему об этом, пришло в Баден на другой день после его отъезда.
Лоран страшно обрадовался, когда калитку ему открыла старушка Катрин. Он бросился ей на шею, но тут же опешил, увидя недовольное лицо этой доброй женщины.
— А зачем вы пришли сюда? — сердито сказала она ему. — Значит, вы знаете, что мадемуазель приезжает сегодня? Разве вы не можете оставить ее в покое? Вы опять задумали что-то дурное? Мне говорили, что вы расстались, и я обрадовалась, потому что раньше я любила вас, а теперь терпеть не могу. Вы думаете, я не знала, что это вы виновник ее неприятностей и огорчений? Ну, идите, идите. Нечего вам ждать ее здесь! Вы что, хотите совсем ее погубить?
— Вы говорите, она сегодня приезжает? — повторял Лоран.
Это все, что дошло до него из отповеди старой служанки. Он вошел в мастерскую Терезы, в маленькую сиреневую гостиную, заглянул и в спальню, приподнимал небеленое полотно, которое Катрин расстелила всюду, чтобы не выгорала мебель, по очереди разглядывая все эти прелестные вещицы, изысканные произведения искусства, за которые Тереза заплатила своим трудом; все было на месте. Казалось, положение, которое она создала себе в Париже, совсем не изменилось, и Лоран растерянно повторял, глядя на Катрин, которая ходила за ним по пятам, не сводя с него подозрительных глаз:
— Она приезжает сегодня!
Когда он писал, что любит какое-то прелестное дитя любовью такою же чистой и светлой, как сама эта девушка, Лоран только хвастался. Ему казалось, что он не лжет, рассказывая об этом Терезе с воодушевлением, всегда охватывавшим его, когда он говорил ей о себе, и составлявшим такой контраст с холодным и насмешливым тоном, который он считал нужным принимать в свете. Он так и не признался в любви этой девушке — предмету его грез. Достаточно было пролететь какой-нибудь птичке или облаку набежать на вечернее небо, чтобы разрушить хрупкое здание счастья и освобождения, возникшее утром в воображении поэта, наивного, как ребенок. Ему помешала боязнь показаться смешным или же страх излечиться от своей непобедимой и роковой страсти к Терезе.