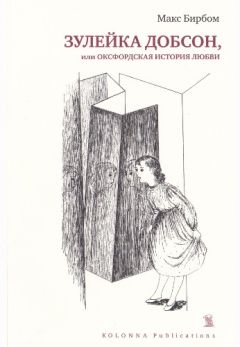При всем этом, нужно изо всех сил постараться предотвратить общую беду — и наказать Зулейку, забрав огромный букет от ее протянутых рук и раздутых ноздрей. Так что нельзя было терять времени. Но с чего, думал он, ступая по плавно поворачивающей от Девы Марии к мосту Магдалины улице, ему начать?
Со ступенек колледжа Квинс неспешно спустился усредненный студент.
— Мистер Смит, — сказал герцог, — позвольте с вами переговорить.
— Но я не Смит, — сказал молодой человек,
— Обобщенно говоря, вы он, — ответил герцог. — В общем и целом вас зовут так. Потому я к вам и обратился. Вас узнав, я узнаю тысячу подобных. Вы мой короткий путь к знанию. Скажите, вы серьезно думаете сегодня утопиться?
— Пожалуй, — сказал студент.
— Знакомая литота, означающая «да, определенно», — пробормотал герцог. — И почему, спросил он дальше, — собрались вы так поступить?
— Почему? Что за вопрос. А почему вы собрались?
— В диалоге только один может быть Сократом. Пожалуйста, ответьте, как можете, на мой вопрос.
— Ну, потому что не могу без нее жить. Потому что хочу доказать свою любовь. Потому…
— Одну причину за раз, пожалуйста. — сказал, подняв руку, герцог. — Вы без нее не можете жить? Вам не терпится умереть, я правильно понял?
— Пожалуй.
— Вы счастливы этим намерением?
— Да. Пожалуй.
— Давайте представим, что я вам предложил два куска янтаря, одинакового качества — маленький и большой. Какой бы вы предпочли?
— Большой, наверное.
— Потому что хорошего лучше больше, чем меньше, верно?
— Именно.
— Счастье, по-вашему, хорошо или плохо?
— Хорошо.
— Поэтому лучше, когда счастья больше, чем меньше?
— Несомненно.
— Так не кажется ли вам, что предпочтительно будет самоубийство отложить на неопределенный срок?
— Но я же сказал, что не могу без нее жить.
— А затем сказали, что безусловно счастливы.
— Да, но…
— Пожалуйста, будьте внимательны, мистер Смит. Помните, это вопрос жизни и смерти. Не подведите. Я вас спросил…
Но студент уже не без определенного достоинства удалялся.
Герцог счел, что не слишком искусно обошелся с этим мужем. Он вспомнил, что даже Сократа, при всей его ложной скромности и подлинном добродушии, со временем перестали терпеть. Не будь его метод сдобрен его нравом, век Сократа был бы совсем краток. Герцог чуть снова не угодил в ловушку. Он почти почуял запах цикуты.
Приближались четверо студентов в ряд. Как обратиться к ним? Он колебался между евангелической задумчивостью: «Спасены ли вы?» — и приветливостью сержанта-вербовщика: «Посмотрите, какие славные молодцы! Да разве можно…» — и т. д. Квартет между тем проследовал дальше.
Подошли еще два студента. Герцог их в порядке личного одолжения попросил не расставаться с жизнью. Те сказали, что им очень жаль, но в этом отношении они ему одолжения сделать не могут. Напрасно он умолял. Они признали, что если бы не его пример, им бы в голову не пришло умереть. Они рады выказать ему благодарность любым способом, кроме того, который лишит их этой возможности.
Герцог проследовал дальше по Хай-стрит. обращаясь к каждому студенту, прибегая ко всем доводам и побуждениям. Одному чье имя ему оказалось знакомо, он придумал личное послание от мисс Добсон, умоляющее ради нее не умирать. Другому он предлагал спешной поправкой к завещанию предоставить долю, которая принесет ежегодный доход в две тысячи фунтов — три тысячи — любую сумму в пределах разумного. Третьего он предложил под руку провести до Карфакса[93] и обратно. Все тщетно.
Затем он очутился на небольшой уличной кафедре вблизи колледжа Магдалины, откуда читал страстную проповедь о святости человеческой жизни, говоря о Зулейке словами, которые произнести не решился бы и Джон Нокс.[94] Нагромождая поношения, он заметил, что паства приходит в угрожающее беспокойство — ропот, сжатые кулаки, мрачные взгляды. Он понял, что боги снова поймали его в западню. Еще секунда, и его могут стащить с этой кафедры, одолеть толпой, разорвать на части. Все умиротворительные способности вложил он в свой взгляд и свою речь завел в учтивые края, отказавшись от права судить «эту даму», указав лишь на удивительное, ужасное, хотя и благородное безрассудство своего намерения. Он кончил на тихой, но проникновенной ноте:
— Я сегодня буду среди теней. Не повстречайтесь мне там, братья мои.
Несмотря на отменный слог и дух проповеди, из-за очевидного логического изъяна она никого не наставила на истинный путь. Выходя со двора, герцог чувствовал, что дело его безнадежно. И все же по Хай-стрит он прошел, продолжая прилежно свою борьбу, подстерегая, упрашивая, требуя, суля огромные взятки. Он продолжил кампанию в «Лодере», затем «У Винсента»,[95] потом снова на улице упорно, неутомимо, безуспешно: всюду пример его ставил шах и мат его наставлениям.
Вид Самого Маккверна, выходившего на полных парах из Крытого рынка с большим, но недорогим букетом, напомнил герцогу о предстоящем ланче. Как мы видели, соблюдение обязательств для него было вопросом чести. Но именно это обязательство — ненавистное, когда он его принимал, из-за его любви, — стало теперь невозможным по причинам, этим утром обратившим его в позорное бегство. Он коротко сказал шотландцу не ждать его.
— Она тоже не придет? — ахнул шотландец, тотчас заподозрив неладное.
— Нет, — круто разворачиваясь, сказал герцог. — Она не знает, что меня не будет. На нее можете рассчитывать. — Уверенный в своей правоте, он с удовольствием отвесил эту колкость в адрес столь нагло навязавшегося вчера мужа. Впрочем, эта мелочная обида, устоявшая, несмотря на катастрофический потоп, смывший все остальное, вызвала у него улыбку. Затем он улыбнулся при мысли о том, как смутит Зулейку его отсутствие. Как мучительно, наверное, прошло ее утро! Он представил ее молчание за ланчем, обращенный на дверь рассеянный взгляд, нетронутую еду. Тут он заметил, что голоден. Он сделал, что мог, дабы спасти юный Оксфорд. Теперь время для бутербродов! Он двинулся в «Хунту».
В столовой позвонив в звонок, он остановил взгляд на миниатюрном портрете Нелли О’Мора. В ответном взгляде Нелли читался, кажется, упрек. Так же, как смотрела она, вероятно, на отвергнувшего ее Греддона, она взирала теперь на того, кто недавно отказался почтить ее память.
И не только она смотрела на герцога с укоризной. В комнате висели на стенах изображения «Хунты», запечатленные год за годом во дворе Крайст-Чёрч господами Хиллзом и Сондерсом. Со всех сторон участники небольшого союза, союза, переменчивого во всем, кроме юности и строгости взгляда, свойственной моменту увековечивания, смотрели на герцога сверх обыкновения строго. Каждый в свое время преданно воздавал хвалу Нелли О’Мора словами, предписанными основателем. Вчерашний мятеж герцога так их возмутил, что если бы они могли, они бы вышли из рамок и покинули клуб в хронологическом порядке — первыми люди из шестидесятых, удаленные во времени от герцога и от Греддона почти Одинаково, все великолепно усатые и галстуковатые, но, увы, уже выцветшие; а в конце процессии, всех, вероятно, злей, сам герцог — прошлогодний герцог, президент «Хунты» и единственный ее член.
Но предшественникам и прошлогоднему герцогу можно было его не упрекать — он смотрел в глаза Нелли О’Мора и уже раскаивался;
— Милая барышня, — прошептал он, — простите меня. Я был без ума. Захвачен прискорбной страстью. Она прошла. Вот, — заговорил он с искупавшим неправду тактом, — я пришел специально, чтобы исправить свою непочтительность. — Повернувшись к официанту, который явился на звонок, он сказал: — Баррет, стакан портвейна, пожалуйста. — Про бутерброды он умолчал.
На слове «вот» он протянул руку к Нелли; другую положил на сердце, где нащупал что-то твердое. Давая указания Баррету, он это твердое рассеянно трогал. Затем, вскричав внезапно, он из нагрудного кармана извлек склянку, взятую у мистера Дрюса. Он схватился за часы: час дня! — опоздание пятнадцать минут. В ужасе он вернул официанта.
— Чайную ложку, сейчас же! Не надо портвейна. Бокал и чайную ложку. И — не скрою, Баррет, ваша миссия безотлагательна сверх всякого представления — возьмите пример с молнии. Идите!
Герцог пришел в смятение. Тщетно он пытался нащупать пульс, понимая, что даже если найдет его, тот ему ничего не скажет. В зеркале он увидел изможденное свое отражение. Дождется ли он Баррета? В инструкции ясно сказано: «Каждые два часа». Принес ли он себя в жертву богам? В глазах Нелли О’Мора появилось сострадание; в глазах предшественников — суровое презрение. «Вот, — будто бы говорили они, — наказание за вчерашнее святотатство». Герцог звонил с отчаянной настойчивостью.
Прибежал наконец Баррет. Чайной ложкой отмерил герцог целебную порцию, затем поднял бокал, обвел взглядом предшественников и твердо провозгласил: