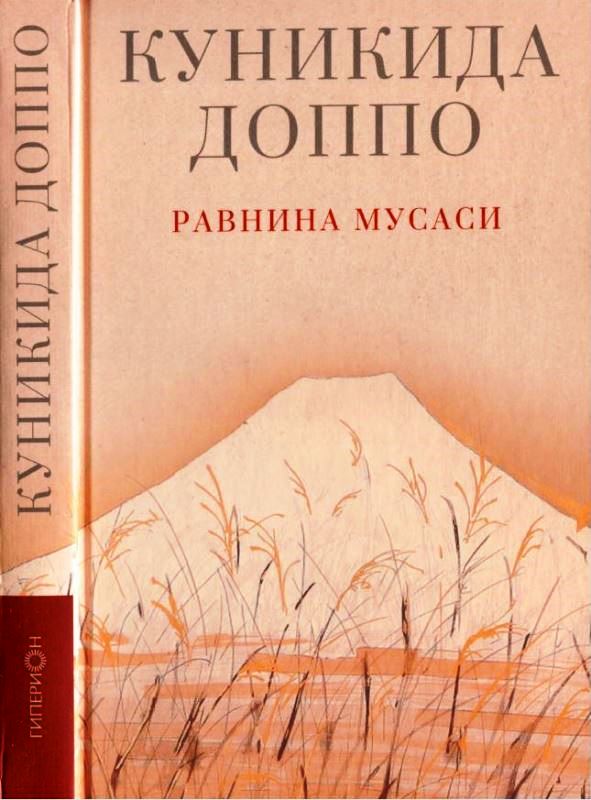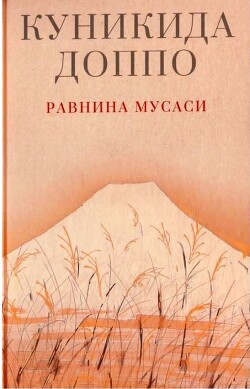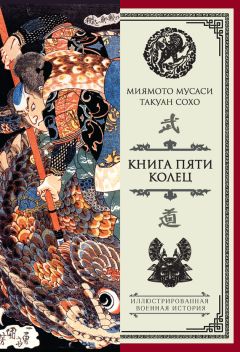оказался под пятой матери, оставил её воровкой и сам попал в положение вора. Естественно, меня мучили угрызения совести. Люди моего типа, как правило, ведут себя одинаково. Если называть это судьбой, значит, судьба. Судьба в том смысле, в каком лягушке навсегда суждено остаться лягушкой. Ничего удивительного.
Меня начала беспокоить так называемая совесть. Ключ, который я всегда носил при себе, не давал мне покоя.
Ведь я был учителем и отвечал за нравственность детей. Я с серьёзным видом должен был обучать их сыновней почтительности, толковать о добре и зле, говорить, как важно, чтобы слово не расходилось с делом. Теперь в таких случаях мне всегда было не по себе. Ученики иногда задавали вопросы, которые пронзали мне сердце. Я даже начинал подозревать, что им известна моя тайна. Взглянув в глаза ученику, нередко сам отводил взгляд. Однажды ученик, мальчик лет десяти, пожаловался мне: «Учитель, Ивадзаки нашёл мой карандаш и не отдаёт». Ребята нередко теряли и находили вещи. В этом нет ничего особенного, при таком скопище детей это неизбежно. Но я вспылил и в сердцах ответил: «Ты был невнимательным, вот и потерял. Подожди! Я сейчас позову Ивадзаки». Раньше я никогда так не разговаривал с ними, и мальчик удивлённо посмотрел на меня.
Я позвал двенадцатилетнего Ивадзаки и спросил у него:
— Ты находил карандаш? — при этом я сам покраснел и смутился. — Нашёл, наверное. Тебе разве неизвестно, что, найдя чужую вещь, ты должен сразу же принести её мне. А присвоить её — это всё равно что украсть. Очень нехорошо! Верни сейчас же карандаш, — приказал я строго.
Так почему же я прячу чужую сумку в своём шкафу?
В этот день сразу же после школы я вернулся домой и сидел сгорбившись в своей комнате, погрузившись в мучительное раздумье. Может быть, признаться во всём? Или уволиться из школы? Ни одно из этих решений не подходило. Если признаюсь, что будет с женой и ребёнком? Если уволюсь, на что будем жить? Но не только это меня волновало. Я чувствовал, что мне будет невыносимо жаль отказаться от дела, которому я отдал столько энергии, — от завершения строительства школы.
День за днём я думал только об одном: где достать сто иен. Сердце моё разрывалось, но надежды не было. Для учителя младшей школы немыслимо было заработать сто иен. Оставалось одно — предаваться мечтам. Вставал ли я, ложился ли спать, я всё время думал о ста иенах. Однажды я вместе с одной ученицей отправился за город на прогулку. Я и раньше часто устраивал такие походы со своими учениками.
Стоял погожий осенний день. Дышалось легко. Девочка, весело напевая, бежала вприпрыжку впереди меня. И дорога бежала вперёд, рассекая степную траву. Когда мы дошли до поворота, я вдруг заметил в траве бумажный свёрток, подскочил к нему, поднял и развернул. Там оказалось сто иен. Дрожащими руками я торопливо начал засовывать его в карман. Но девочка заметила, и, подбежав ко мне, спросила:
— Что это вы нашли?
— Так, ничего особенного.
— Нет, покажите, покажите, — начала она приставать и теребить меня.
— Перестань! — сказал я и оттолкнул её.
Она упала навзничь. Я невольно вскрикнул, бросился помочь ей и очнулся. Это был сон. Я задремал после обеда в учительской на стуле.
Я так много думал о деньгах, что даже во сне начал их видеть. И вдруг подумал о том, как жалко человеческое сердце.
17 мая
Жена была явно обеспокоена происшедшей во мне переменой. Я не отношусь к тем людям, которые умеют скрывать своё горе. Мне и дома не было покоя, я всё боялся, что жена откроет мою тайну, и от этого терзался ещё больше. Глядя на жену, я пытался прочесть в её глазах, не догадалась ли она о чём. Я часто нервничал, раздражался по пустякам, — одним словом, не находил себе места. Мучился сам и мучил жену. Вдруг ни с того ни с сего начинал ей грубить или за целый день не произносил ни слова. Куда делись моя доброта и нежность? Мою душу словно вывернули наизнанку, и на ней, как на морском берегу после отлива, выступили камни. Не удивительно, что жена была встревожена.
Страшнее всего для доброго и порядочного человека потерять доброту и порядочность. Я напоминал загнивающий персимон, из которого выжали сок. И жена не зря стала относиться ко мне с подозрением, может быть, с неприязнью, и сама мрачнела и всё чаще вздыхала.
На душе у меня становилось ещё тяжелее. Но судьба недолго потешалась над нами. В вечер двадцать пятого ноября, ровно через месяц после того, как я нашёл сумку, наступила развязка.
В этот день после школы я ходил по делам в Канда и вернулся домой только в девять часов. Увидев жену, я был поражён. О-Маса с Тасуку на спине сидела возле хибати бледная как полотно. Она не поздоровалась со мной. Красные глаза и следы слёз говорили сами за себя.
Я смутился. Мало того, я испугался. Меня бросило в дрожь.
— Что с тобой?
Но жена только пристально-жутко посмотрела на меня и ничего не ответила. Вдруг я заметил, что дверцы шкафа открыты и ящик, где хранилась тайна, наполовину выдвинут. Я обмер.
— Кто открыл? — закричал я, подбежав к ящику.
— Я, — спокойно ответила жена.
— Для чего открыла? Для чего?
— Приходили из комитета за счётной книгой. Я открыла и отдала, — и она опять пристально взглянула мне в лицо.
— Какое право ты имела отдавать в моё отсутствие? Что это значит? — Я заглянул в ящик. Сумка лежала сверху, но была открыта.
— Ты видела? — закричал я опять. — Ну, с меня хватит. Достаточно. — Ругаясь, я задвинул ящик, закрыл его на ключ и разъярённый выбежал на улицу.
Не помня себя, сам не знаю как, я очутился возле Аояма. Я брёл без всякой цели. Вот наконец и жена узнала тайну, но решимости у меня от этого не прибавилось. Ведь и кричал-то я больше от страха и обругал её оттого, что сам растерялся. И не убежал я, а сбежал.
Прогулка успокоила меня, и я решил рассказать жене всё как было и посоветоваться с ней. Пора наконец прекратить эти нелепые отношения. Я поспешил домой.
Почему же я не рассказал жене о сумке сразу? Об этом лучше не спрашивать. Таков уж характер у Окава Имадзо.
Вернувшись, я не нашёл жены. И не мог найти, так как она