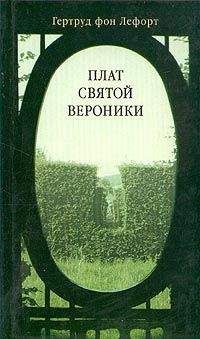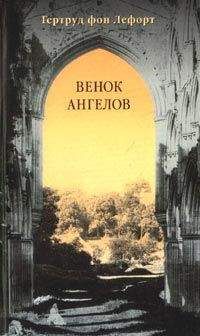После этой маленькой речи бабушка поцеловала меня, не дожидаясь ответа с моей стороны, что на ее ласково-властном языке означало: никаких возражений быть не может, и тема исчерпана раз и навсегда.
Я при этом ощутила острую боль – как будто я не заслужила ее поцелуя; потом он целый день лежал такой тяжелой печатью на моих устах, словно они, молча приняв поцелуй, солгали моей любимой бабушке. Но я не знала, как объяснить ей, чт на самом деле произошло со мной в соборе Святого Петра и почему я так неожиданно бросилась на колени.
Эта болезненная беспомощность по отношению к бабушке еще больше усилилась на следующий день, когда она в своей прекрасной, открытой манере доказала мне, что вновь полностью доверяет мне и больше уже не опасается брать меня с собой на предстоящие церковные празднества.
Дело в том, что Энцио, который тем временем, одинокий и неприступный – во всяком случае для меня, – бродил по церквям, да так неутомимо, что его почти не было видно, вдруг явился вечером в Страстную пятницу к бабушке с ожесточенным лицом и заявил, что ему наскучили церемонии, на которых говорят якобы на латинском, а в действительности – на каком-то незнакомом ему метафизическом языке. Судя его по виду, трудно было поверить в то, что они ему и вправду наскучили, тем более что он тут же по-мальчишески бурно стал просить бабушку вновь составить ему компанию в субботу, и она по доброте своей немедленно дала согласие при условии, что они пойдут не в собор Святого Петра, как хотел Энцио, а в церковь Сан Джованни ин Латерано, которому, по ее выражению, «как матери и главе всех церквей», в этот день принадлежит главенствующая роль [43] . Она назвала субботнее торжество одним из самых красивых и в то же время одним из самых радостных праздников римско-католического церковного календаря. При этих ее словах на меня ощутимо повеяло нежностью, словно для нее важно было не только вновь показать мне свое доверие, но и окончательно развеять в моем воспоминании мрачную тень «Мизерере», которая ей, вероятно, все еще чудилась на моем лице. Но именно эта трогательная нежность вновь усилила мою боль о ней. К тому же я чувствовала, что Энцио, который, похоже, совсем не доверял мне, не хотел, чтобы я вместе с ними отправилась в Латеранскую базилику. Он ничего не сказал, но это чувствовалось. К счастью, бабушка вдруг взглянула на происходящее между ним и мной по-иному. Сама же я – так решила я в эти дни – хотела побыть печальной уже хотя бы из-за него…
По дороге бабушка разъяснила нам суть предстоящего празднества. Позже мне это всегда казалось печальным и исполненным глубокого смысла знаком судьбы – что тем первым опытом христианской пасхальной радости я обязана своей бабушке-язычнице, чьи холодные, застывшие уста спустя некоторое время, также впервые в моей юной жизни, безмолвно возвестили мне и об ужасной действительности смерти. Тогда, в ту Страстную субботу, в церкви Сан Джованни ин Латерано я еще не знала о смерти или, пожалуй, знала лишь, как знают о существовании некой далекой страны, в которой трудно, в сущности, невозможно вообразить кого-либо из своих близких или себя самого. Но дыхание этой страны в тот день тихо коснулось моего чела. Было очень странно: хотя мне и казалось, что я готова ко всему, радость этого пасхального утра обрушилась на меня так же, как мрак в соборе Святого Петра, и почти так же загадочно иначе, чем я ожидала.
В церкви Сан Джованни ин Латерано царили могильная прохлада и тишина, чего в обычные дни почти никогда не бывает, даже ранним утром, перед началом первой мессы. В этой тишине базилика показалась мне торжественной, чужой и странной, но при этом не объятой ожиданием, как я сама, а скорее дремлющей. Мы, сами того не замечая, старались шагать бесшумно. В церкви еще никого не было. Только в одном из боковых нефов длинными рядами стояли облаченные в белое клирики, которым предстоял обряд рукоположения. Издалека в полумраке они похожи были на большие белые цветы, которыми украсили чей-то незримый гроб.
Потом внесли крохотный, нежный зародыш огня, над которым, словно три луча, воспарил ввысь таинственный троекратный возглас «Lumen Christi» [44]. Однако глубокое, призрачно-волшебное оцепенение все еще не рассеивалось. И вот наконец грянуло песнопение, сопровождающее возжигание пасхальной свечи, – великолепный, удивительный, возвышенный гимн, в котором не ангелы воспевают человека, а спасенный от смерти человек ввергает ангелов в бурю ликования, разразившуюся от края до края небес:
Exsultet jam Angelica turbo caelorum:
exsultent divina mysteria! [45]
Еще совсем юный дьякон пропел эту ликующую песнь с маленькой кафедры рядом с алтарем прямо вниз, в храм, – нет, прямо в мир – таким необыкновенным голосом, как будто это сама утренняя заря протрубила победу над тьмой. Неужели это была та самая церковь, мрачные песнопения которой приводили меня еще совсем недавно в трепет? Какая радость! Мне казалось, что я никогда доселе не слышала таких сладостно-ликующих звуков. При этом я, в сущности, все еще не знала, что они означают.
Пока перед главным алтарем читали из Пророков, мы прохаживались взад-вперед в глубине базилики. Бабушка была еще под впечатлением «Exsultet». Она сказала, что это самый мощный из всех гимнов жизни, которые когда-либо звучали, что он и раньше приводил ее в необычайное волнение, но никогда еще не действовал на нее так, как сегодня.
Энцио, который всегда своенравничал, когда боялся своей собственной растроганности, заявил, что этот гимн, конечно же, прекрасен, как поэзия, но заключенная в нем мысль кажется ему сомнительной. Что вечной жизни для себя лично он не может себе ни представить, ни пожелать. Более того – она даже противоречит его максималистскому жизненному инстинкту, требующему или всего, или ничего.
– Друг мой, вы еще очень молоды, и собственная жизнь кажется вам невыразимо прекрасной, – ответила бабушка.
Первые слова она произнесла торопливо и страстно, как и всегда, когда оживлялась. Но потом голос ее вдруг словно окутался странной тоской, как будто собственные слова навели ее на мысль, от которой она, в сущности, была совсем далека, – это был тон, которого я никогда не слышала из ее уст.
Свечи и лампады горели уже у всех алтарей, дивный огонь пасхальной свечи вспыхнул сотнями маленьких язычков. И все же вдруг появилось ощущение, как будто в этом свечении и мерцании, во всем этом буйстве радости присутствует еще что-то, о чем мне никогда не говорили, нечто тихое и трепетное, нечто белоснежное и потустороннее, некое «noli me tangere» [46], которое светилось как бы вовсе не здесь и сейчас, а где-то далеко-далеко над темными безднами земли и ночи. Мне вдруг опять вспомнился собор Святого Петра – как будто все это ликование было некой победой за темными вратами, к которым меня манил тихий голос, вопрошавший все эти дни: «А ты можешь быть печальной?» Но вот над главным алтарем, где уже началась месса, воссияла «Gloria» [47]; зазвонили колокола, грянул орган, и наконец все это заглушило ликующее «аллилуйя». Оно вновь и вновь вздымалось вверх, словно волны благодарности и любви, заливающие храм. Казалось, будто все тени внезапно расцвели блеском славы, будто сама черная земля вдруг превратилась в свет, а все ее камни – в крылья. Я испытывала бурное желание присоединиться к этому ни с чем не сравнимому ликованию, но в то же время чувствовала нежную преграду, отделявшую меня от него и вселявшую в меня странную робость. Даже когда во время мессы подняли Святые Дары, мне казалось, что они воспарили над ним как тихая отрешенность. Или, может, причиной тому была эта робость моего сердца, вдруг устремившегося глубже, ближе к нему?..
Потом мы еще раз зашли в Сан Джованни ин фонте [Fonte (ит.) – родник, источник.
], где до этого освящали воду для крещения. Баптистерий был слишком мал, чтобы вместить всех желающих, и вначале нас не пустили внутрь. Теперь здесь не было ни души, остался лишь тонкий сладкий аромат: каменный пол и ступени перед купелью – античной базальтовой ванной – усеяны были цветами. Я вдруг спросила бабушку, крестили ли меня. Она взглянула немного удивленно, но потом, вероятно, простодушно решила, что в моем вопросе вовсе нет никакого тайного смысла. Нет, ответила она, я так и осталась маленькой язычницей, причем формально – единственной в нашей семье. Сама она еще по традиции крестила своих дочерей, отец же мой, окончательно порвавший с Церковью, воспротивился этому обычаю в отношении своего ребенка.
Пока бабушка объясняла мне это, Энцио постепенно отдалился от нас; я так и не поняла, не обиделся ли он из-за моего вопроса. Я слышала, как он заговорил со старым хранителем о знаменитой бронзовой двери баптистерия, которая была перенесена сюда из терм Каракаллы и славилась тем, что при открытии и закрытии удивительно мелодично – в октаву – гудела. Бабушка направилась к нему, а я осталась одна на ступенях купели. У меня появилось ощущение, как будто по всему этому маленькому, тихому, древнему баптистерию разлилась неописуемая благодать, ни с чем не сравнимые мир и радость, – как будто для меня пасхальная свеча должна была загореться лишь теперь, в этом помещении. Я подняла с пола у края бассейна несколько цветков, чтобы отнести их тетушке Эдельгарт. При этом я почувствовала к ней такую любовь, какой еще никогда не испытывала. Я подумала о предстоящем ей воцерковлении, которое, как я полагала, должно было состояться очень скоро. Меня охватило вдруг нетерпение: казалось, я не доживу до этого дня.