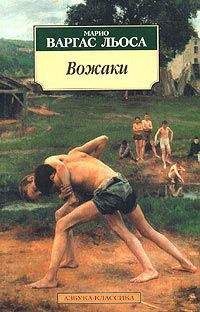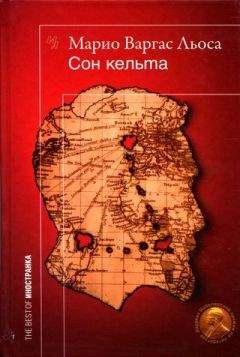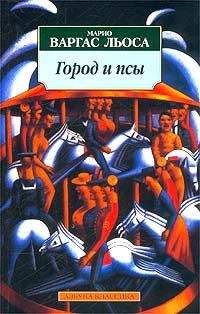До появления самого значительного из романов Кортасара — "Игра в классики" (1963), его творчество было попеременно то реалистическим, то фантастическим, но эти два направления не создали двух манер письма. Автобиографический голос боксера из "Торито", интеллигентный голос музыковеда из "Преследователя" — это один и тот же чистый голос. Тот же голос рассказывает, как человек превращается в маленькое водяное животное в "Аксолотле", и описывает в "Менадах" концерт, переходящий в жертвоприношение. Это единство идет от стиля, который, точно мост, перекинут через пропасть, разделяющую в испанском языке устную и письменную речь.
Эти два направления соединяются в романе "Игра в классики", где не существует границы между реальным и воображаемым. Однако эти два мира не смешиваются, а сосуществуют таким образом, что невозможно указать черту, которая их разделяет. Погружаясь попеременно то в повседневную жизнь, то в чудо, читатель никогда не знает, в какой момент пересекает их границу. Тут все дело в легчайших переменах дыхания повествования, в едва заметном чередовании его ритмов и законов.
Действие происходит в Париже и Буэнос-Айресе, но эпизоды не перемежаются, не подчиняются один другому. Они, если можно так сказать, суверенны, и их связывает между собой только герой по имени Оливейра, загипнотизированный мнимостью современной жизни. Его поступки и мечты — это маниакальный поиск причин этой неподлинности. В Париже он ведет свое иссследование среди интеллигентов, таких же, как он, париев, сходящихся в кафе "Клуб Змеи", а в Буэнос-Айресе — среди людей, социально более интегрированных.
Роман "Игра в классики" — это открытое произведение со многими дверьми, которые могут служить и входом и выходом, как заблагорассудится читателю. Книгу можно читать двумя способами: "традиционным" (в этом случае в роман войдет только половина его страниц) и другим, применять который нужно с главы 73, продвигаясь вперед зигзагообразно, согласно указаниям автора. Эти два возможных (и не единственных) способа чтения дают начало разным книгам, ибо, помимо автора и читателя, есть третий герой, чья роль настолько же решающа, насколько неожиданна для правильного понимания романа. Этот "герой" занимает целую треть романа и зовется культурой. Кортасар собрал ряд чужих текстов, которые выступают как полноправные главы, так как в сопоставлении с этими стихами, цитатами, газетными вырезками эпизоды меняют перспективу и даже содержание. Культура в ее самом широком понимании ассимилируется, таким образом, художественным повествованием как динамический элемент, который действует внутри повествуемого. Среди современных романов "Игра в классики" — это, без сомнения, одно из произведений с наиболее оригинальной структурой.
Проза Хосе Лесама Лимы, напротив, не отличается никакой изощренностью. "Парадиз" (1966) — единственный роман писателя — построен средствами "газетного" романа, текста с продолжением. Его величие — в языке. Речь идет об отчаянной попытке описать вселенную, созданную галлюцинирующим воображением. Лесама называет себя изобретателем "поэтической системы" мира (ключи к которой — метафора и образ — являются, по его мнению, орудиями человека для понимания истории и природы, для победы над смертью и для своего спасения), а "Парадиз" представляет демонстрацию этой системы в готовом виде.
Действительно, перед нами необычный языковой мир. В романе рассказывается о жизни Хосе Семи с детства и до той поры, когда двадцать лет спустя, с уже сформировавшимся мироощущением, он готовится следовать призванию художника. Но книга примечательна не рассказом о воспитании юного художника (жизнь Семи в семье, открытие им кубинской природы, его литературные диспуты), а перспективой, в свете которой все эти факты излагаются. События романа даны не как происходящие во внешней реальности и не через мысли героев, а в чувственном измерении, где растворяются и перемежаются факты и размышления, образуя удивительные соединения, беглые, переменчивые формы, полные цвета, музыки, вкусовых ощущений и запахов, пока не расплываются и не становятся недоступными пониманию.
Жизнь Семи и тех, кто его окружает, — это каскад ощущений, которые нам сообщаются посредством метафор. Тут преобладают зрительные впечатления, и эта проза, описывающая реальность через ее пластические свойства, без конца поглощает событийную сторону, как цвет на полотнах Тернера.[75] В этой чувственной вселенной, которую населяют монстры, сладострастно смакующие свои ощущения от восприятия живых существ и предметов, читатель постоянно отсылается к новым существам, новым предметам и новым ощущениям, и так без конца, пока из этой беспокойной и надоедливой игры зеркалами не возникнет неуловимая субстанция, в которую погружен Хосе Семи, — его чарующий "рай". Роман Лесамы Лимы воскрешает функцию, которую художественная проза наших дней обходила и которая считалась высшим предназначением классического романа, — открывать неведомые зоны реальности.
Мир Карпентьера — не чувственный, несмотря на то что, пожалуй, единственное живое чувство в нем — это любовь к вещам, к этой инертной материи, которую он описывает в отработанной, неторопливой и одновременно мифологической прозе. Эта проза вырастает на границе реального и сказочного, и Карпентьер нашел хорошую формулу для определения ее двойственной природы "чудесная реальность".
Его первая книга "Экуэ-Ямба-О!" (1933) стоит ближе к "примитивному", чем "созидающему" роману: она воссоздает с документальной точностью языческий колдовской культ кубинских негров и обличает проникновение империализма в страну. Но когда шестнадцать лет спустя появится "Царство земное", фольклорист станет художником, алхимиком, превращающим в мифы подлинные факты, извлеченные из антильского прошлого; социальным наблюдателем, умелым мастером, который играет со временем и в барочной языковой манере воссоздает красочную географию Карибского бассейна. Восстание рабов, наполеоновская экспансия и кровавая диктатура Анри-Кристофа на Гаити, которые в этом романе синтезируются в библейском видении; равно как и поиск рая земного, который ведет музыкант из "Потерянных следов" (1953), покинувший цивилизованный мир и совершающий путешествие по Ориноко и одновременно путешествие во времени; равно как история времен террористической диктатуры Мачадо на Кубе, разработанная в "Погоне" в форме музыкальной пьесы; или легендарная хроника событий — отзвуков Французской революции в карибских странах в "Веке просвещения" (1962) — все это разные фазы формирования одной общей аллегории американской самобытности, все это доказательства одной важной истины: сюрреалистическая поэтическая реальность, которая в Европе была продуктом воображения и подсознания, в Америке предстает как объективная реальность.
В этой самобытности американской действительности, рожденной в результате столкновения европейского разума и магического ощущения жизни у аборигена, которое с приходом африканца обогатилось новыми ритмами и культами, сосуществуют, как в "Потерянных следах", все исторические возрасты, все расы, все климаты и пейзажи.
Гарсиа Маркес тоже строит мир, но у него не найти ни интеллектуальной преднамеренности, ни кропотливой работы над стилем, как у Карпентьера: щедрость его воображения стихийна, и проза его прежде всего действенна…
Роман Гарсиа Маркеса, как и все упомянутые мною (и еще дюжина других, которые стоило бы назвать), свидетельствует об оригинальности и плодотворности, доказывающих, что латиноамериканская проза переживает момент апогея. В то время как европейский и североамериканский роман судорожно мечется между формалистскими, герметическими выкрутасами и унылой приверженностью традициям, нам есть чему радоваться. Но радуемся мы не за Латинскую Америку, поскольку здоровье прозы обычно означает глубокий кризис действительности, которая эту прозу вдохновляет, а за то, что роман продолжает жить.
Выход в свет романа Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества" представляет собой литературное событие исключительного значения: своим блистательным появлением эта книга, имеющая необычайные достоинства, традиционная и современная одновременно, американская и универсальная, рассеивает мрачные предсказания, что роман как жанр истощился и находится на пути к исчезновению.
Не говоря о том, что Гарсиа Маркес написал восхитительную книгу, неумышленно, возможно, сам того не зная, он сумел восстановить повествовательную традицию, прерванную века тому назад, сумел воскресить широкий, благородный и великолепный литературный реализм, который был у зачинателей романа как жанра в Средние века. Благодаря книге "Сто лет одиночества" еще больше окреп престиж, который был завоеван американским романом в последние годы и который продолжает расти и расти.