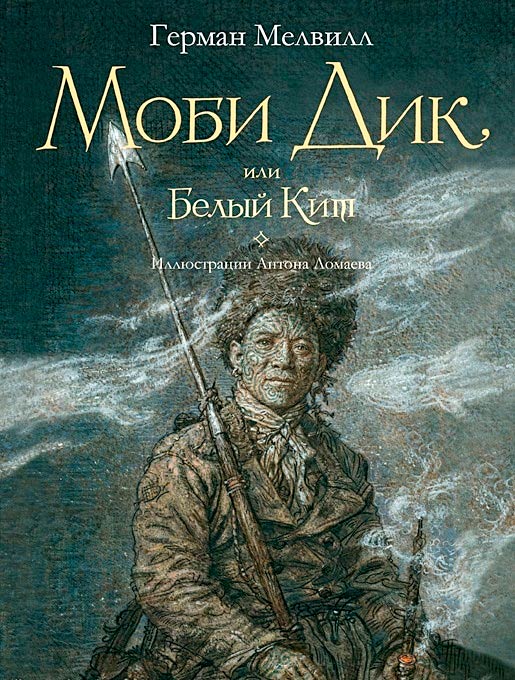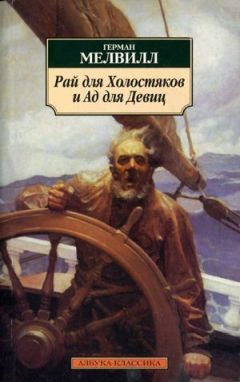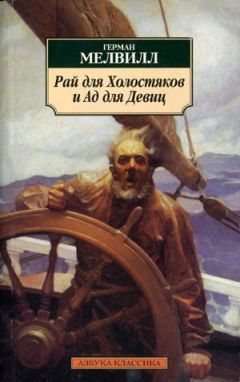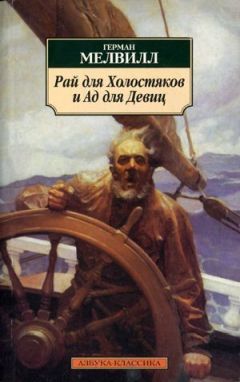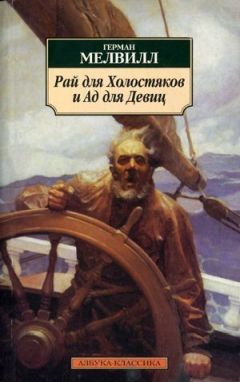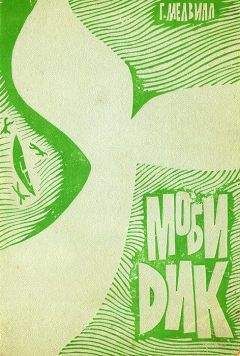но всякому ясно, что это было вызвано мучительной, острой болью в кровоточащем обрубке. Знаю также, что с того самого дня, как он потерял в последнем плаванье ногу в схватке с этим проклятым китом, он все время в мрачности, в беспросветной мрачности, а порой и в бешенстве; но это пройдет. И раз навсегда скажу тебе, юноша, и ты можешь мне поверить, что лучше плавать с угрюмым хорошим капитаном, чем с капитаном веселым и плохим. А теперь прощай, и не будь несправедливым к капитану Ахаву из-за того, что у него дурное имя. К тому же, мой мальчик, у него есть жена — вот уже три рейса, как он на ней женился, — добрая, безропотная юная женщина. Подумай, от этой юной женщины у него есть ребенок — как по-твоему, может ли старый Ахав быть до конца безнадежно дурным? Нет, нет, мой друг, Ахав изувечен, изломан, но и ему не чужда человечность!
Я уходил, погруженный в задумчивость. То, что по воле случая открылось мне про капитана Ахава, наполнило меня теперь какой-то неспокойной, смутной болью. Я чувствовал к нему сострадание и жалость, но за что именно, не знаю, разве только за то, что он был жестоко искалечен. В то же время я испытывал к нему и необъяснимое чувство страха; но чувство это, описать которое я никак не сумею, было, собственно, не страхом, а чем-то иным, я даже сам не знаю чем. Так или иначе, но я его испытывал, и оно не вызывало у меня к нему никакой враждебности, хотя меня и раздражала слегка какая-то связанная с этим человеком таинственность, которую я ощутил, как ни мало мне было о нем тогда известно. Однако постепенно мысли мои устремились в других направлениях, и темный образ Ахава на время покинул меня.
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
Глава XVII
Рамадан
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
Квикегов рамадан, или великий день поста и смирения, должен был кончиться только к ночи, и я решил, что не стоит его покамест беспокоить; ибо я питаю глубочайшее уважение ко всяким религиозным обрядам, как бы смехотворны они ни казались, и я никогда бы не смог отнестись без должного почтения даже к сборищу муравьев, бьющих поклоны перед мухомором; или к тем существам в некоторых уголках нашей планеты, которые с подобострастием, не имеющим равного на других мирах, поклоняются изваянию какого-нибудь скончавшегося землевладельца, потому только, что его огромными богатствами все еще распоряжаются от его имени.
Я считаю, что нам, набожным христианам, возросшим в лоне пресвитерианской церкви, следует быть милосерднее в таких делах и не воображать себя настолько уж выше всех других смертных, язычников и прочих, если им свойственны в этой области кое-какие полубезумные представления. Вот Квикег, например, безусловно придерживается самых нелепых заблуждений относительно Йоджо и рамадана — ну и что же из того? Квикег, надо полагать, знает, что он делает, он удовлетворен и пусть себе остается при своих убеждениях. Все мои споры с ним ни к чему бы не привели, пусть же он будет и впредь самим собой, говорю я, и да смилуются небеса над всеми нами — и пресвитерианцами и язычниками, ибо у всех у нас, в общем-то, мозги сильно не в порядке и нуждаются в капитальном ремонте.
Под вечер, когда, по моим представлениям, все его ритуалы и церемонии должны были завершиться, я поднялся наверх и постучался. Ответа не последовало. Я толкнул дверь, но она оказалась заперта изнутри. «Квикег!» — шепотом позвал я через замочную скважину. Молчание. «Квикег, послушай! отчего ты не отвечаешь? Это я, Измаил». Но все по-прежнему было тихо. Я начал тревожиться. Ведь я дал ему такую пропасть времени — уж не случился ли с ним апоплексический удар? Я заглянул в замочную скважину, но дверь находилась в дальнем углу комнаты, и вид через замочную скважину открывался скошенный и зловещий. Видна была только спинка кровати и часть стены, а больше ровным счетом ничего. Но я с удивлением заметил, что к стене прислонена деревянная рукоятка Квикегова гарпуна, который был у нас изъят хозяйкой накануне вечером, когда мы поднимались к себе. Странно, подумал я, но, по крайней мере, раз гарпун стоит там, а Квикег без своего гарпуна никогда за порог не ступит, значит, и сам он определенно находится внутри.
— Квикег! Квикег!
Тишина. Не иначе как что-нибудь случилось. Апоплексический удар! Я попытался высадить дверь, но она упрямо не поддавалась. Я поспешно сбежал вниз по лестнице и тут же высказал все мои подозрения первому, кто мне подвернулся, а это была горничная.
— Ай-яй-яй! — закричала она. — Так я и знала, что случилась беда. Я хотела после завтрака войти убрать постель, а дверь-то заперта. И тихо — мышь не заскребется. С самого утра — ни звука. Я думала, может, вы оба ушли и замкнули дверь, чтобы вещи целее были. Ох! Ах! Хозяйка! Убийство! Миссис Стервоуз! Удар!
И она с воплями бросилась на кухню, а я поспешил за ней. Навстречу нам, с горчичницей в одной руке и с уксусницей в другой, вылетела миссис Фурия, оторвавшись на время от приготовления приправ и одновременной проборки чернокожего мальчишки-посыльного.
— Где у вас сарай? — орал я. — Сарай где? Сбегайте туда и принесите что-нибудь, чтобы взломать дверь, — топор! Топор! С ним случился удар, уверяю вас!
Говоря все это, я в то же время с пустыми руками опять уже бессмысленно мчался вверх по лестнице, но тут мне преградила дорогу хозяйка, выставив вперед горчицу и уксус, а заодно и свою не менее кислую физиономию.
— В чем дело, молодой человек?
— Дайте мне топор! Бога ради, кто-нибудь бегите за доктором, пока я буду взламывать дверь!
— Послушайте, — проговорила миссис Фурия, поспешно ставя на ступеньку уксусницу, чтобы освободить хотя бы одну руку. — Послушайте-ка, уж не в моем ли это доме вы собираетесь взламывать дверь? — И она схватила меня за руку повыше локтя. — В чем дело, а? Что случилось, приятель?
По возможности спокойно, но быстро я обрисовал ей положение вещей. В растерянности прижав горчичницу сбоку к носу, она размышляла несколько мгновений, затем, воскликнув: «Да, да! Я как оставила его там, так больше и не видела!» — побежала к чуланчику под лестницей, заглянула туда и, возвратившись, сообщила, что Квикегова гарпуна на месте нет.
— Он зарезался, — провозгласила она. — Вся история с несчастным Стигзом повторяется снова… Еще одному одеялу конец… Бедная,