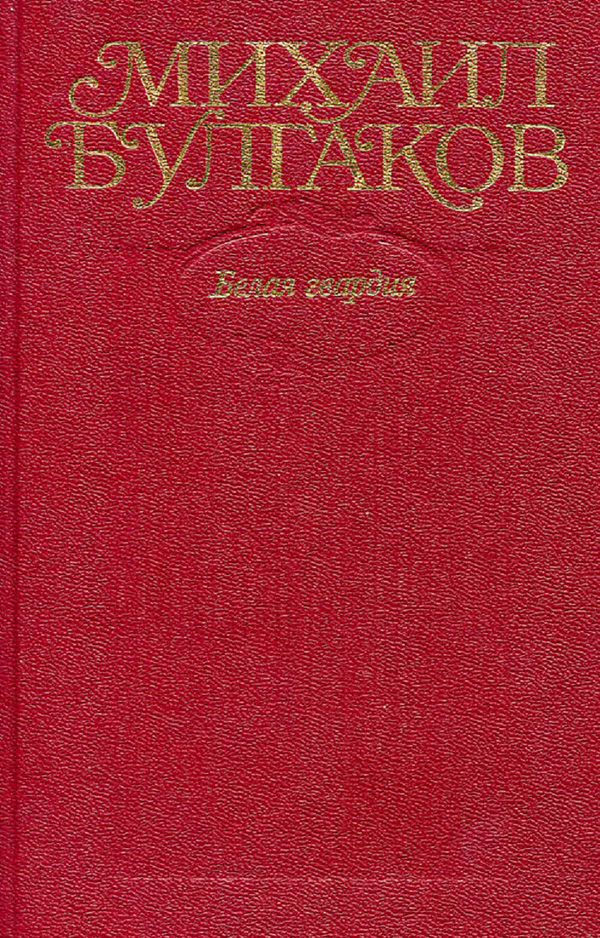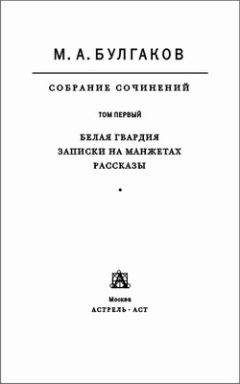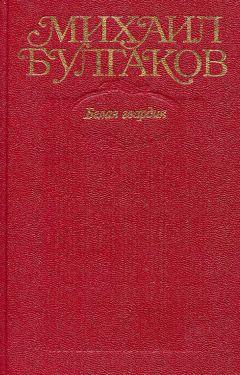жилью.
Лошади вдруг дернули и заработали ногами оживленнее. Я обрадовался, не зная еще причины этого.
— Жилье, может, почувствовали? — спросил я.
Возница мне не ответил. Я приподнялся в санях, стал всматриваться. Странный звук, тоскливый и злобный, возник где-то во мгле, но быстро потух. Почему-то неприятно мне стало, и вспомнился конторщик, и как он тонко скулил, положив голову на руки. По правой руке я вдруг различил темную точку, она выросла в черную кошку, потом еще подросла и приблизилась. Пожарный вдруг обернулся ко мне, причем я углядел, что челюсть у него прыгает, и спросил:
— Видели, гражданин доктор?..
Одна лошадь метнулась вправо, другая влево, пожарный навалился на секунду мне на колени, охнул, выправился, стал опираться, рвать вожжи. Лошади всхрапнули и понесли. Они взметывали комьями снег, швыряли его, шли неровно, дрожали. И у меня прошла дрожь несколько раз по телу. Оправясь, я залез за пазуху, вынул браунинг и проклял себя за то, что забыл дома и вторую обойму. Нет, если уж я не остался ночевать, то факел почему я не взял с собой?! Мысленно я увидел короткое сообщение в газете о себе и злосчастном пожарном. Кошка выросла в собаку и покатилась невдалеке от саней. Я обернулся и увидел совсем близко за санями вторую четвероногую тварь. Могу поклясться, что у нее были острые уши и шла она за санями легко, как по паркету. Что-то грозное и наглое было в ее стремлении. «Стая или их только две?» — думалось мне, и при слове «стая» варом облило меня под шубой, и пальцы на ногах перестали стыть.
— Держись покрепче и лошадей придерживай, я сейчас выстрелю, — выговорил я голосом, но не своим, а неизвестным мне.
Возница только охнул в ответ и голову втянул в плечи. Мне сверкнуло в глаза и оглушительно ударило. Потом второй раз и третий раз. Не помню, сколько минут трепало меня на дне саней. Я слушал дикий визгливый храп лошадей, сжимал браунинг, головой ударился обо что-то, старался вынырнуть из сена и в смертельном страхе думал, что у меня на груди вдруг окажется громадное жилистое тело... Видел уже мысленно свои рваные кишки...
В это время возница завыл:
— Ого... го... вон он... вон... Господи, выноси, выноси...
Я наконец справился с тяжелою овчиной, выпростал руки, поднялся. Ни сзади, ни с боков не было черных зверей. Мело очень редко и прилично, и в редкой пелене мерцал очаровательнейший глаз, который я бы узнал из тысячи, который узнаю и теперь... — мерцал фонарь моей больницы. Темное громоздилось сзади него. «Куда красивее дворца...» — промыслил я и вдруг в экстазе еще два раза выпустил пули из браунинга назад, туда, где пропали волки.
* * *
Пожарный стоял посредине лестницы, ведущей из нижнего отдела замечательной врачебной квартиры, я — наверху этой лестницы, Аксинья в тулупе — внизу.
— Озолотите меня, — заговорил возница, — чтоб я в другой раз... — Он недоговорил, залпом выпил разведенный спирт и крякнул страшно, обернулся к Аксинье и прибавил, растопырив руки, сколько позволяло его устройство: — Во величиной...
— Померла? Не отстояли? — спросила Аксинья у меня.
— Померла, — ответил я равнодушно.
Через четверть часа стихло. Внизу потух свет. Я остался наверху один. Почему-то судорожно усмехнулся, расстегнул пуговицы на блузе, потом их застегнул, пошел к книжной полке, вынул том хирургии, хотел посмотреть что-то о переломах основания черепа, бросил книгу.
Когда разделся и влез под одеяло, дрожь поколотила меня с полминуты, затем отпустила, и тепло пошло по всему телу.
— Озолотите меня, — задремывая, пробурчал я, — но больше я не по...
— Поедешь... ан поедешь... — насмешливо высвистала вьюга.
Она с громом проехалась по крыше, потом пропела в трубе, вылетела из нее, прошуршала за окном, пропала.
— Поедете... пое-де-те... — стучали часы, но глуше, глуше.
И ничего. Тишина. Сон.
Где же весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы? Люди? Небо? За окошками нет ничего! Тьма...
Мы отрезаны от людей. Первые керосиновые фонари от нас в 9 верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик, издыхает от метели. Пройдет в полночь с воем «скорый» в Москву и даже не остановится — не нужна ему забытая станция, погребенная в буране. Разве что занесет пути.
Первые электрические фонари в 40 верстах, в уездном городе. Там сладостная жизнь. Кинематограф есть, магазины. В то время как воет и валит снег на полях, на экране, возможно, плывет тростник, качаются пальмы, мигает тропический остров...
Мы же одни.
— Тьма египетская, — заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору.
Выражается он торжественно, но очень метко. Именно — египетская.
— Прошу еще по рюмке, — пригласил я. (Ах, не осуждайте! Ведь врач, фельдшер, две акушерки, ведь мы тоже люди! Мы не видим целыми месяцами никого, кроме сотен больных. Мы работаем, мы погребены в снегу. Неужели же нельзя нам выпить по 2 рюмки разведенного спирту по рецепту и закусить уездными шпротами в день рождения врача?)
— За ваше здоровье, доктор! — прочувствованно сказал Демьян Лукич.
— Желаем вам привыкнуть у нас! — сказала Анна Николаевна и, чокаясь, поправила парадное свое платье с разводами.
Вторая акушерка Пелагея Ивановна чокнулась, хлебнула, сейчас же присела на корточки и кочергой пошевелила в печке. Жаркий блеск метнулся по нашим лицам, в груди теплело от водки.
— Я решительно не постигаю, — заговорил я возбужденно и глядя на тучу искр, взметнувшихся под кочергой, — что эта баба сделала с белладонной. Ведь это же кошмар!
Улыбки заиграли на лицах фельдшера и акушерки.
Дело было вот в чем. Сегодня на утреннем приеме в кабинет ко мне протиснулась румяная бабочка лет 30. Она поклонилась акушерскому креслу, стоящему за моей спиной, затем из-за пазухи достала широкогорлый флакон и запела льстиво:
— Спасибо вам, гражданин доктор, за капли. Уж так помогли, так помогли... Пожалуйте еще баночку.
Я взял у нее из рук флакон, глянул на этикетку, и в глазах у меня позеленело. На этикетке было написано размашистым почерком Демьяна Лукича:
«Tinct. Belladonn...» и т д. «16 декабря 1917 года...»
Другими словами, вчера я выписал бабочке порядочную порцию белладонны, а сегодня, в день моего рождения, 17 декабря, бабочка приехала с сухим флаконом и просьбой повторить.
— Ты... ты... все приняла вчера? —