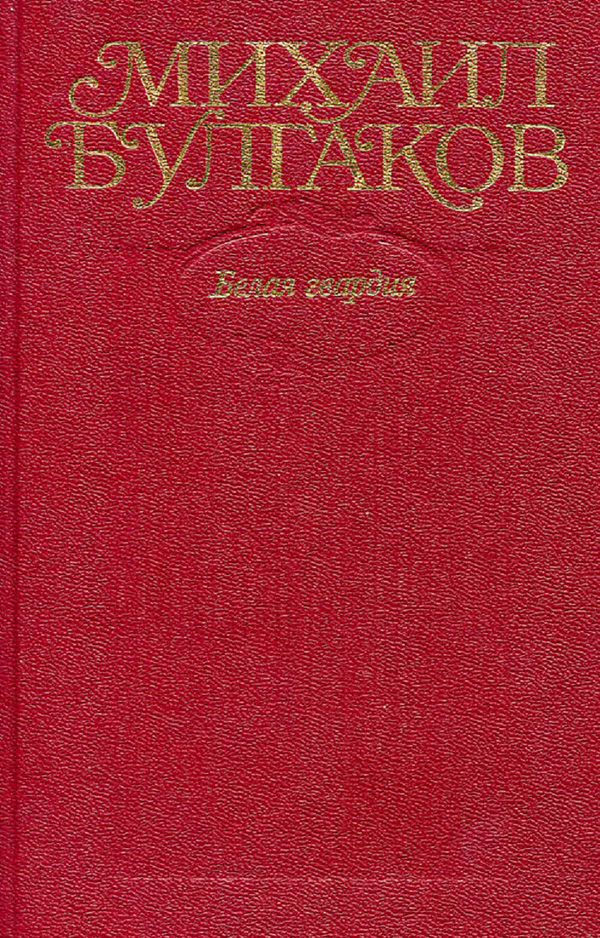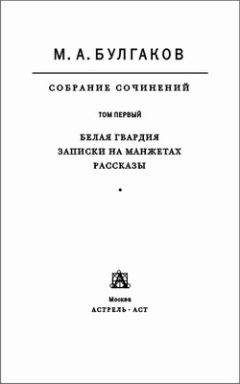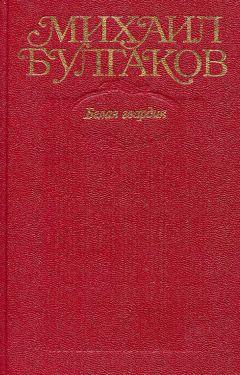закрыли. Гости мои ушли в свой флигель. Я видел, как некоторое время тускловато светилось оконце у Анны Николаевны, потом погасло. Все скрылось. К метели примешался густейший декабрьский вечер, и черная завеса скрыла от меня и небо, и землю.
Я расхаживал у себя по кабинету, и пол поскрипывал под ногами, и было тепло от голландки-печки, и слышно было, как грызла где-то деловитая мышь.
«Ну нет! — раздумывал я. — Я буду бороться с египетской тьмой ровно столько, сколько судьба продержит меня здесь в глуши. Сахар-рафинад... Скажите пожалуйста!..»
В мечтаниях, рождавшихся при свете лампы под зеленым колпаком, возник громадный университетский город, а в нем клиника, а в клинике — громадный зал, изразцовый пол, блестящие краны, белые стерильные простыни, ассистент с остроконечной, очень мудрой седеющей бородкой...
Стук в такие моменты всегда волнует, страшит. Я вздрогнул...
— Кто там, Аксинья? — спросил я, свешиваясь с балюстрады внутренней лестницы (квартира у врача была в двух этажах: вверху — кабинет и спальня, внизу — столовая, еще одна комната — неизвестного назначения и кухня, в которой и помещались эта Аксинья-кухарка и муж ее, бессменный сторож больницы).
Загремел тяжелый запор, свет лампочки заходил и закачался внизу, повеяло холодом. Потом Аксинья доложила:
— Да больной приехал...
Я, сказать по правде, обрадовался. Спать мне еще не хотелось, а от мышиной грызни и воспоминаний стало немного тоскливо, одиноко. Притом больной, значит, не женщина, значит, не самое страшное — не роды.
— Ходит он?
— Ходит, — зевая, ответила Аксинья.
— Ну пусть идет в кабинет.
Лестница долго скрипела. Поднимался кто-то солидный, большого веса человек. Я в это время уже сидел за письменным столом, стараясь, чтобы 24-летняя моя живость не выскакивала по возможности из профессиональной оболочки эскулапа. Правая моя рука лежала на стетоскопе, как на револьвере.
В дверь втиснулась фигура в бараньей шубе, валенках. Шапка находилась в руках у фигуры.
— Чего же это вы, батюшка, так поздно? — солидно спросил я для очистки совести.
— Извините, гражданин доктор, — приятным мягким басом отозвалась фигура, — метель — чистое горе! Ну задержались, что поделаешь, уж простите, пожалуйста!..
«Вежливый человек», — с удовольствием подумал я. Фигура мне очень понравилась, и даже рыжая густая борода произвела хорошее впечатление. Видимо, борода эта пользовалась некоторым уходом. Владелец ее не только подстригал, но даже и смазывал каким-то веществом, в котором врачу, пробывшему в деревне хотя бы короткий срок, нетрудно угадать постное масло.
— В чем дело? Снимите шубу. Откуда вы?
Шуба легла горой на стул.
— Лихорадка замучила, — ответил больной и скорбно глянул.
— Лихорадка? Ага! Вы из Дульцева?
— Так точно. Мельник.
— Ну как же она вас мучает? Расскажите!
— Каждый день, как 12 часов, голова начинает болеть, потом жар как пойдет... Часа два потреплет и отпустит...
«Готов диагноз», — победно звякнуло у меня в голове.
— А остальные часы ничего?
— Ноги слабые...
— Ага... расстегнитесь!.. Гм... так.
К концу осмотра больной меня очаровал. После бестолковых старушек, испуганных подростков, с ужасом шарахающихся от металлического шпаделя, после этой утренней штуки с белладонной на мельнике отдыхал мой университетский глаз.
Речь мельника была толкова. Кроме того, он оказался грамотным, и даже всякий жест его был пропитан уважением к науке, которую я считаю своей любимой, — к медицине.
— Вот что, голубчик, — говорил я, постукивая по широчайшей теплой груди, — у вас малярия. Перемежающаяся лихорадка... У меня сейчас целая палата свободна. Очень советую ложиться ко мне. Мы вас как следует понаблюдаем. Начну вас лечить порошками, а если не поможет, мы вам впрыскивания сделаем. Добьемся успеха. А? Ложитесь?..
— Покорнейше вас благодарю! — очень вежливо ответил мельник. — Наслышаны об вас. Все довольны. Говорят, так помогаете... И на впрыскивание согласен, лишь бы поправиться.
«Нет, это поистине светлый луч во тьме!» — подумал я и сел писать за стол. Чувство у меня при этом было настолько приятное, будто не посторонний мельник, а родной брат приехал ко мне погостить в больницу.
На одном бланке я написал:
«Chinini mur. — 0,5
D. T. dos № 10
S. Мельнику Худову.
по 1 порошку в полночь».
И поставил лихую подпись.
А на другом бланке:
«Пелагея Ивановна! Примите во 2-ю палату мельника. У него malaria. Хинин по одному порошку, как полагается, часа за 4 до припадка, значит, в полночь.
Вот вам исключение! Интеллигентный мельник!»
Уже лежа в постели, я получил из рук хмурой и зевающей Аксиньи ответную записку:
«Дорогой доктор! Все исполнила. Пел. Лбова».
И заснул...
...И проснулся.
— Что ты? Что? Что, Аксинья?! — забормотал я.
Аксинья стояла, стыдливо прикрываясь юбкой с белым горошком по темному полю. Стеариновая свеча трепетно освещала ее заспанное и встревоженное лицо.
— Марья сейчас прибежала. Пелагея Иванна велела, чтоб вас сейчас же позвать.
— Что такое?
— Мельник, говорит, во 2-й палате помирает.
— Что-о?! Помирает? Как это так помирает?!
Босые мои ноги мгновенно ощутили прохладный пол, не попадая в туфли. Я ломал спички и долго тыкал в горелку, пока она не зажглась синеватым огоньком. На часах было ровно 6.
«Что такое?.. что такое? Да неужели же не малярия?! Что же с ним такое? Пульс прекрасный...»
Не позже чем через пять минут я, в надетых наизнанку носках и незастегнутом пиджаке, взъерошенный, в валенках, проскочил через двор, еще совершенно темный, и вбежал во 2-ю палату.
На раскрытой постели, рядом со скомканной простыней, в одном больничном белье сидел мельник. Его освещала маленькая керосиновая лампочка. Рыжая его борода была взъерошена, а глаза мне показались черными и огромными. Он покачивался, как пьяный. С ужасом осматривался, тяжело дышал...
Сиделка Марья, открыв рот, смотрела на его темно-багровое лицо. Пелагея Ивановна в криво надетом халате, простоволосая, метнулась навстречу мне.
— Доктор! — воскликнула она, — я не виновата. Кто же мог ожидать. Вы сами же чиркнули — интеллигентный...
— В чем дело?!
Пелагея Ивановна всплеснула руками и молвила:
— Вообразите, доктор! Он все десять порошков хинину съел сразу! В полночь.
* * *
Был мутноватый зимний рассвет. Демьян Лукич убирал желудочный зонд. Пахло камфорным маслом. Таз на полу был полон буроватой жидкостью. Мельник лежал истощенный, побледневший, до подбородка укрытый белой простыней. Рыжая борода торчала дыбом. Я, наклонившись, пощупал пульс и убедился,