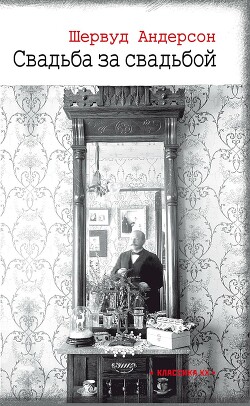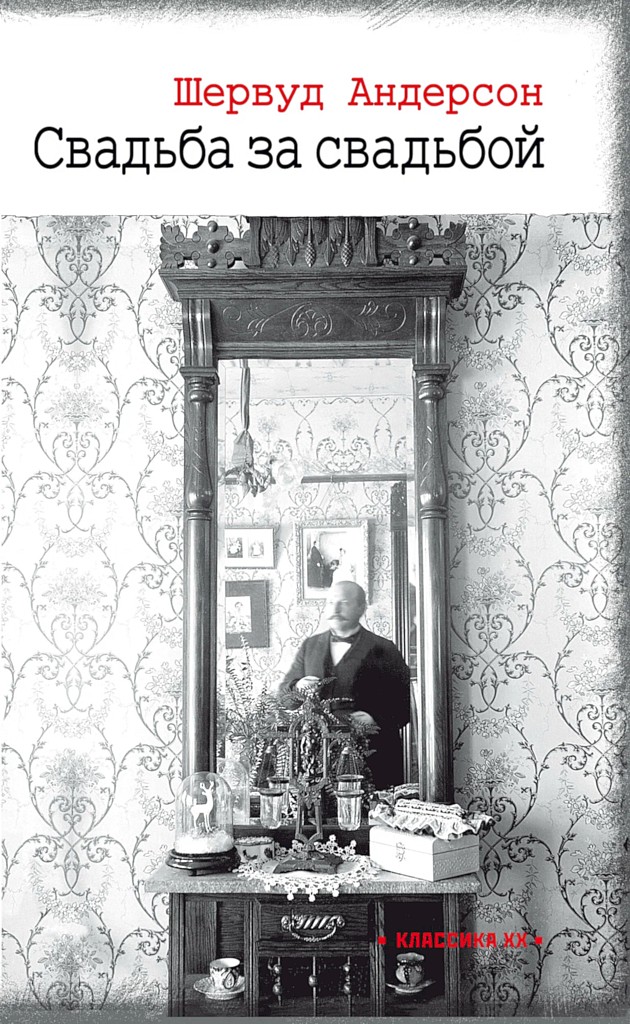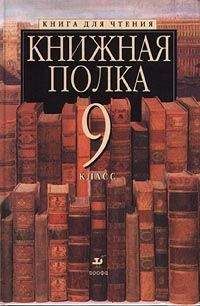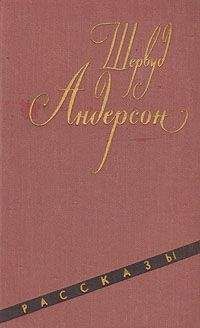Свадьба за свадьбой! Разум Джона Уэбстера парил над миром. Он смотрел на женщину, которая, хоть они и расстались много лет назад — да, они и вправду безвозвратно расстались однажды на холме, над долиной в штате Кентукки, — которая по-прежнему каким-то нелепым образом была с ним связана, и в этой же самой комнате была другая женщина, его дочь. Дочь стояла рядом с ним. Он мог бы протянуть руку и коснуться ее. Она не смотрела ни на него, ни на мать, она смотрела в пол. О чем она думала? Какие мысли пробудил он в ней? Чем обернутся для нее события этой ночи? На многие вопросы у него не было ответов, многое следовало препоручить заботам высших сил.
Мысли мчались, задыхались на бегу. Всю свою жизнь он сталкивался там, в мире, с мужчинами определенного толка. Обычно они были из тех, кого принято именовать сомнительными типами. Что с ними не так? То были мужчины, которые шагали по жизни с эдаким летящим изяществом. Они, в сущности, были выше добра и зла, им не было дела до тех сил, под влиянием которых строятся и разрушаются судьбы людей. Джон Уэбстер сталкивался с несколькими такими мужчинами, и с тех пор они не шли у него из головы. Теперь они, будто в процессии, шествовали перед его внутренним взором.
Вот белобородый старик с тяжелой тростью, рядом с ним бежит пес. Старик широкоплеч и поступь у него такая, какой ни у кого больше нет. Джон Уэбстер встретил его как-то раз, когда ехал по пыльной деревенской дороге. Кто этот человек? Куда идет? От него исходило какое-то особенное ощущение. «А не пошел бы ты к черту, — казалось, говорил весь его облик. — Я тут иду. Я полон царственного величия. Разглагольствуйте, если угодно, о демократии и равенстве, набивайте свои гнилые тыквы белибердой о загробной жизни, стряпайте свои маленькие враки, без которых вам так тяжко брести в темноте, — но прочь с дороги. Я иду при свете».
Должно быть, со стороны Джона Уэбстера было нелепо думать о старике, которого он однажды встретил на проселочной дороге. Но совершенно точно, что весь его облик врезался ему в память с необычайной отчетливостью. Он остановил коня, чтобы посмотреть старику вслед, но тот даже не снизошел обернуться и удостоить его взглядом. Ну что ж, у того старика и впрямь была царственная поступь. Наверное, потому-то он и привлек внимание Джона Уэбстера.
Он думает о самом себе и о таких вот мужчинах — обо всех, каких видел за свою жизнь. Был еще матрос на пристани в Филадельфии. Джон Уэбстер был в этом городе по делам, и однажды днем ему нечем было заняться, так что он спустился к морю, туда, где грузили и разгружали корабли. У причала был пришвартован парусник, бригантина, и он увидел, как какой-то мужчина подходит к пристани. Через плечо у него была перекинута сумка — в ней, наверное, он хранил свою матросскую одежду. Он конечно же был матрос и намеревался пуститься в плавание на бригантине. Он попросту подошел к борту судна, забросил сумку на палубу, позвал какого-то человека — тот высунул голову из-за двери какой-то надстройки, — повернулся и пошел прочь.
Кто же выучил его такой походке? Сам дьявол! Мужчины в большинстве своем, да и женщины, крадутся сквозь жизнь, как воры. Кто внушил им это чувство, из-за которого они кажутся себе такими ничтожествами, такими червями? Неужто они никогда не прекращают марать самих себя склизкими обвинениями — и если так, что же заставляет их так поступать? Старик на проселочной дороге, моряк, шагающий по улице, боксер-негр, которого он однажды увидал за рулем авто, игрок на скачках в одном южном городке — в чересчур броском клетчатом жилете тот прохаживался перед трибуной, заполненной публикой, или та актриса — раз он видел, как она выходила из театра со служебного входа, — они, должно быть, плюют на всех и вся и вышагивают подобно королям.
Что внушило этим мужчинам и женщинам такое уважение к самим себе? Ясно, что все дело — именно в уважении к себе. Наверное, им незнакомо чувство вины и стыда, снедавшее стройную девушку, на которой он однажды женился, и грузную бессловесную женщину, которая теперь так неказисто развалилась на полу у него под ногами. Представь себе такого человека, представь, с какими словами он обращается к самому себе: «Ну вот он я, видишь, вот он я на свете. У меня вот это самое тело, долговязое ли, коренастое ли, вот эти самые волосы, каштановые или русые. Глаза у меня этого самого, а не другого цвета. Я ем, я сплю по ночам. Всю жизнь мне предстоит проторчать среди людей вот в этом самом теле, моем теле. И что же, ползать мне перед ними или вышагивать гордо, подобно королю? Ненавидеть собственное тело, бояться его, этого дома, в котором мне суждено обитать, — или относиться к нему с почтением и заботиться о нем? Черт возьми! Какие тут могут быть вопросы? Я приму жизнь такой, какова она есть. Птицы будут петь для меня, земля по весне вспыхнет зеленью для меня, вишня расцветет в саду для меня».
Джону Уэбстеру представилась фантастическая картина: человек из его фантазий входит в комнату. Он прикрывает за собой дверь. На каминной полке в ряд горят свечи. Человек открывает шкатулку и достает серебряный венец. Вот он тихонько смеется и водружает венец себе на голову. «Я короную себя, теперь я человек», — говорит он.
Это было изумительно. Вот ты в комнате, смотришь на женщину, которая некогда была твоей женой, и вот-вот ты отправишься в путешествие и уж больше никогда ее не увидишь. Как нежданно ослепляет тебя эта пелена мыслей. Повсюду резвятся твои фантазии. Кажется, часами стоишь как истукан и думаешь о своем, а на деле прошло всего несколько секунд с того момента, как голос жены, окликнувшей его этим «не надо», прервал его собственный голос, рассказывавший историю самого обыкновенного несчастливого брака.
Теперь нужно было не забывать о дочери. Лучше всего сейчас вывести ее из комнаты совсем. Она движется к двери в свою комнату, еще минута — и она уйдет. Он отвернулся от мучнисто-бледной женщины на полу и посмотрел на свою дочь. Теперь его тело было стиснуто между телами двух женщин. Они не могли друг друга видеть.
Эта история о браке, которую он не закончил и не сможет закончить сейчас — в свое время дочь поймет, каким должен быть ее неизбежный конец.
Вот о чем надо сейчас подумать. Дочь покидает его. Может быть, он никогда больше ее не увидит. Ты вечно читаешь жизнь по ролям, превращаешь ее в пьесу, сгущаешь краски. Это неизбежно. Каждый день твоей жизни — цепочка маленьких драм, и самому себе ты всегда отводишь ключевую роль в представлении. Ужасно досадно забывать слова, оставаться за кулисами, когда тебе подают реплику. Рим горел, а Нерон играл на лире. Он позабыл, какую роль себе отвел, и дергал за струны для того только, чтобы себя не выдать. Может статься, потом он собирался произнести обычную для политика речь о городе, возродившемся из пепла.
Во имя всех святых! Неужели дочь спокойно выйдет из комнаты и даже не обернется на пороге? Что еще он мог бы ей сказать? Да, пожалуй, он был взвинчен, он был опечален.
Дочь стояла у двери, ведущей в ее комнату, и смотрела на него, и было в ней какое-то явственное, почти подлинное безумие, в котором весь вечер пребывал и он сам. Он заразил ее чем-то своим. В конечном счете здесь произошло то, чего он желал: истинная свадьба. Теперь, когда этот вечер миновал, молодая женщина никогда не сможет быть тем, чем она была бы, не случись этого вечера. Теперь он знал, чего для нее хочет. Те люди, чьи образы только что являлись ему в воображении, завсегдатай ипподрома, старик на дороге, матрос на пристани, — было нечто, чем они завладели, и он хотел, чтобы она владела этим тоже.
Теперь он уезжает с Натали, со своей собственной женщиной, и никогда больше не увидит дочь. По существу, она ведь была еще совсем юной девушкой. Вся женственность простиралась перед ней.
«Я проклят. Я самый настоящий псих», — думал он. Внезапно его охватило смехотворное желание пропеть дурацкий мотивчик, зазвучавший только что у него в голове.
Дили-дили-дило,
Дили-дили-дило,
Костяное дерево костей нам уродило,
Дили-дили-дило.