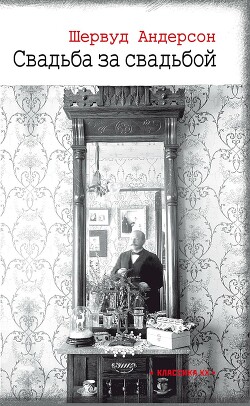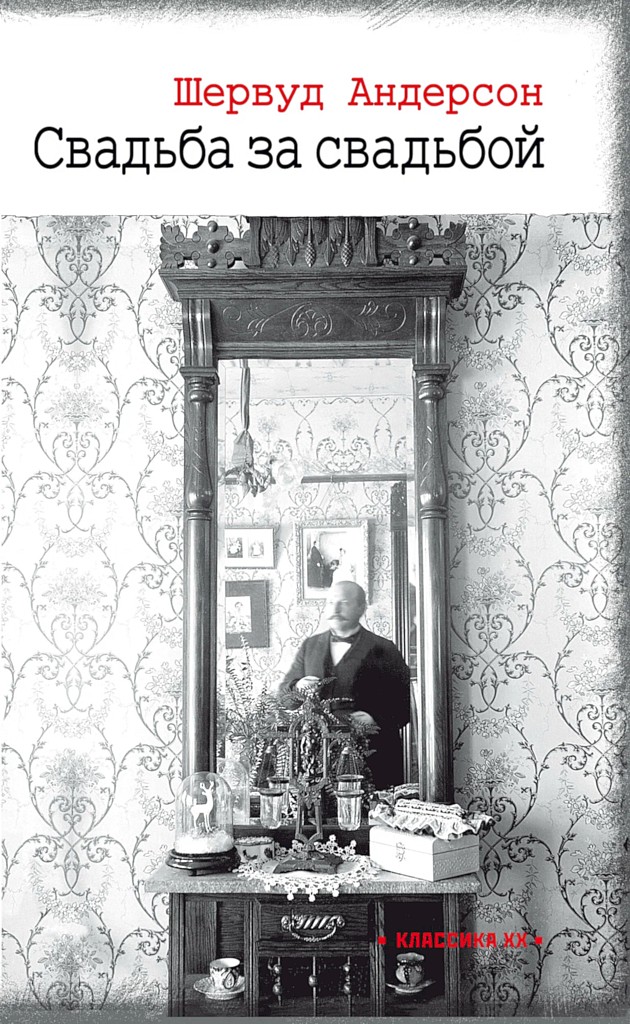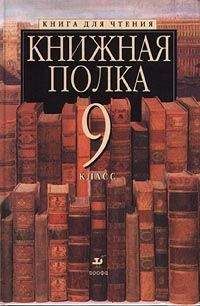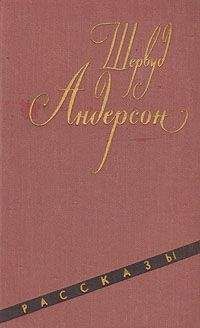Он повернул голову, и взгляд его, казалось, медленно, бережно вбирает в себя комнату, как если бы он не желал забыть ни единой детали этой картины, на которой он и его дочь были центральными фигурами.
— Видишь ли, — продолжил он, — женщина, красивая женщина может сжимать в руке сколько угодно драгоценных вещей. Она может любить множество раз, и драгоценности эти могут оказаться драгоценностями жизненного опыта, испытаний, которые выпали на ее долю, понимаешь?
Джон Уэбстер, казалось, играл со своей дочерью в какую-то фантастическую игру, но она больше не чувствовала страха, который охватил ее, когда она в первый раз вошла в комнату, и не была озадачена, как всего минуту назад. Она обратилась в слух. Женщина, скорчившаяся на полу позади ее отца, была позабыта.
— Прежде чем уйти, я должен кое-что тебе дать. Я должен назвать тебе имя этого камешка, — проговорил он, по-прежнему улыбаясь.
Он снова раскрыл ее ладонь, взял камень, отошел и с минуту простоял перед одной из свечей, держа его в руке. Потом вернулся и снова вложил камень ей в ладонь.
— Это дар твоего отца, но делает он его в тот миг, когда уже перестал быть отцом тебе, когда он полюбил тебя как женщину. Что ж, полагаю, тебе стоит покрепче ухватиться за него, Джейн. Бог его знает, когда он тебе понадобится. Если желаешь для него имени, то зови его «драгоценным камнем жизни», — сказал он и, будто бы уже позабыв обо всем, что произошло, положил руку дочери на плечо, мягко подтолкнул — и закрыл за ней дверь.
9
Джону Уэбстеру все еще было чем заняться в этой комнате. Когда дочь ушла, он подхватил чемодан и вышел в коридор, как если бы собирался уйти, больше ни словом не обмолвившись с женой, а та по-прежнему сидела на полу, свесив голову, будто бы не сознавая жизни вокруг себя.
Выйдя в коридор и прикрыв за собой дверь, он поставил чемодан на пол и затем вернулся. Когда он еще был в комнате, еще держался за ручку двери, то услышал на нижнем этаже какой-то шум. «Это Кэтрин. Что она там делает среди ночи?» — подумал Уэбстер. Он поднес к глазам часы и подошел поближе к горящим свечам. Четверть третьего. «Мы сядем на ранний поезд в четыре утра», — решил он.
Вот на полу в изножье кровати его жена или, вернее сказать, та, что была его женой так долго. Теперь ее глаза устремлены прямо на него. И по-прежнему глазам нечего сказать. В них нет даже мольбы. Была только какая-то безнадежная озадаченность. Если даже все, что произошло в этой комнате нынче ночью, и сорвало крышку с колодца, который она носила в себе, теперь ей удалось вернуть ее на место и придавить как следует.
Теперь, пожалуй, крышка никогда больше не сдвинется с места. Джон Уэбстер ощущал себя так же странно, как ощущает, думалось ему, гробовщик, когда его среди ночи вызывают к покойнику.
«Вот черт! Да наверняка эти ребята ничего такого не чувствуют». Почти не понимая, что делает, он достал сигарету и закурил. Он чувствовал себя до странности безразличным, как если бы следил за репетицией не особенно интересного ему спектакля. «Все правильно, пришло время умирать, — думал он. — Эта женщина умирает. Не могу сказать, умирает ли ее тело, но внутри у нее что-то уже умерло». Ему было любопытно, он ли убил ее, но виноватым он себя нисколько не чувствовал.
Он подошел к изножью кровати, взялся за спинку и наклонился, чтобы взглянуть на нее.
Час был темный. Дрожь охватила его тело, и черные мысли, будто стая черных дроздов, летели над полем его фантазии.
«Вот черт! Ад тоже есть! Есть такая штука — смерть, и другая есть — жизнь», — сказал он самому себе. Впрочем, было тут еще чему подивиться. Женщине на полу потребовалось много времени и мрачной решимости, чтобы проделать весь этот путь по дороге к тронному залу смерти. «Наверное, никто никогда не погрузится полностью в топь гниющей плоти, покуда в нем есть жизнь и жизнь эта толкает крышку вверх».
В голове Джона Уэбстера бурлили мысли, которые не приходили ему на ум годами. Как видно, в университете, молодым человеком, он и впрямь был куда более живой, чем сам подозревал. Все, о чем спорили другие молодые люди, ребята, которых увлекали книги, все, о чем в этих самых книгах читал он сам (а знакомство с ними входило в его учебные обязанности), — все это в последние недели вернулось в его сознание. «Можно подумать, я над этим ломал голову всю жизнь», — подумал он.
Певец Данте, Мильтон с его «Потерянным раем», древнееврейские поэты Ветхого Завета — конечно же все эти парни однажды узрели то, что в эту самую минуту открыто ему самому.
На полу перед ним сидела женщина и смотрела прямо на него, глаза в глаза. Весь вечер в ней шла битва, что-то рвалось наружу, к ним с дочерью. Теперь борьба была окончена. Объявлена капитуляция. Он продолжал смотреть на нее, и в его глазах было все то же странное неподвижное выражение.
«Слишком поздно. Не помогло», — медленно проговорил он. Он сказал это негромко, шепотом.
Новая мысль пришла ему в голову. Все время, пока он жил с этой женщиной, он цеплялся за одну идею. Эдакий маяк, и маяк этот, он теперь чувствовал, с самого начала вел его по ложному пути. Он Бог весть как перенял эту идею у остальных, у людей своего круга. Это была особенная американская идея, которая так или иначе, не впрямую, но неуклонно повторялась в газетах, в журналах, в книгах. А за нею стояла безумная, доходяжная какая-то философия. «Все содействует ко благу [2]. Бог в небесах, и в мире порядок. Все люди созданы свободными и равными» [3].
«Что за безбожный вал трескучих, ничего не значащих фраз барабанит в уши мужчинам и женщинам, которые пытаются жить своей собственной жизнью!»
Великое омерзение поднялось в нем. «Что ж, мне нет смысла оставаться здесь еще хоть на миг. Моя жизнь в этом доме подошла к концу», — подумал он.
Он подошел к двери и, открыв ее, обернулся еще раз. «Доброй ночи и всего хорошего», — проговорил он весело, как если бы просто уходил поутру на фабрику.
И щелканье закрывшейся двери вспороло царившую в доме тишину.
Книга четвертая
1
Ясно было, что призрак смерти затаился в доме Уэбстеров. Джейн Уэбстер чуяла ее. Совершенно неожиданно она осознала свою способность ощущать множество невыразимых, не имеющих имени вещей. Когда отец положил руку ей на плечо и толкнул обратно, во тьму за закрытой дверью ее комнаты, она сразу подошла к кровати и опустилась на покрывало. Она лежала и сжимала в кулаке камень, который он дал ей. Какое счастье, что есть за что ухватиться. Пальцы так сильно сжимали камень, что он почти врезался ей в ладонь, в самую плоть. Может, до этого вечера ее жизнь и была тихой рекой, что течет через луга к океану жизни, но теперь это уже не так. Теперь у реки на пути встал мрачный скалистый край. Она пробивала себе дорогу по каменистым расселинам между высокими ощерившимися уступами. Кто же теперь знает, что ждет ее завтра, послезавтра. Отец вздумал сбежать с какой-то неведомой женщиной. В городе быть скандалу. Все ее друзья и подружки будут таращиться на нее с немым вопросом в глазах. Может быть, с жалостью. Что-то всколыхнулось в ней, это мысль заставила ее передернуться от гнева. То, что к матери она не испытывала ни малейшего сострадания, было дико — и все-таки это была правда. Отец хотел сблизиться с ней, и ему это удалось. Каким-то удивительным образом она поняла, что он собирается сделать, зачем ему это. Она так и видела перед собой фигуру обнаженного мужчины, что шагает перед нею взад-вперед. Сколько она себя помнила, мужское тело всегда будило в ней любопытство.
Раз или два у нее заходил об этом разговор со знакомыми девочками, разговор осторожный, полуиспуганный. «Мужчина — это то-то и то-то. Когда вырастешь и выйдешь замуж, пойдут всякие ужасы». Одна девочка кое-что видела. По соседству с ней, на той же улице, жил мужчина, который, случалось, забывал задергивать шторы на окнах своей спальни. Однажды летним вечером девочка лежала на постели у себя в комнате и видела, как этот человек вошел к себе и разделся донага. Он затеял какую-то чепуху. Там у него висело зеркало, и вот он прыгал перед зеркалом туда-сюда. Он, видно, прикидывался, будто дерется со своим отражением на кулаках, и то подпрыгивал к зеркалу, то отпрыгивал, выделывая телом и руками самые потешные фигуры, никак не мог угомониться. Он подскакивал, делал сердитое лицо и наносил удар, а потом отшатывался, как если бы человек в зеркале тоже хорошенько ему врезал.