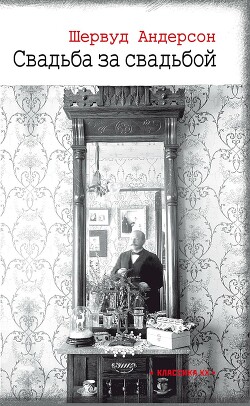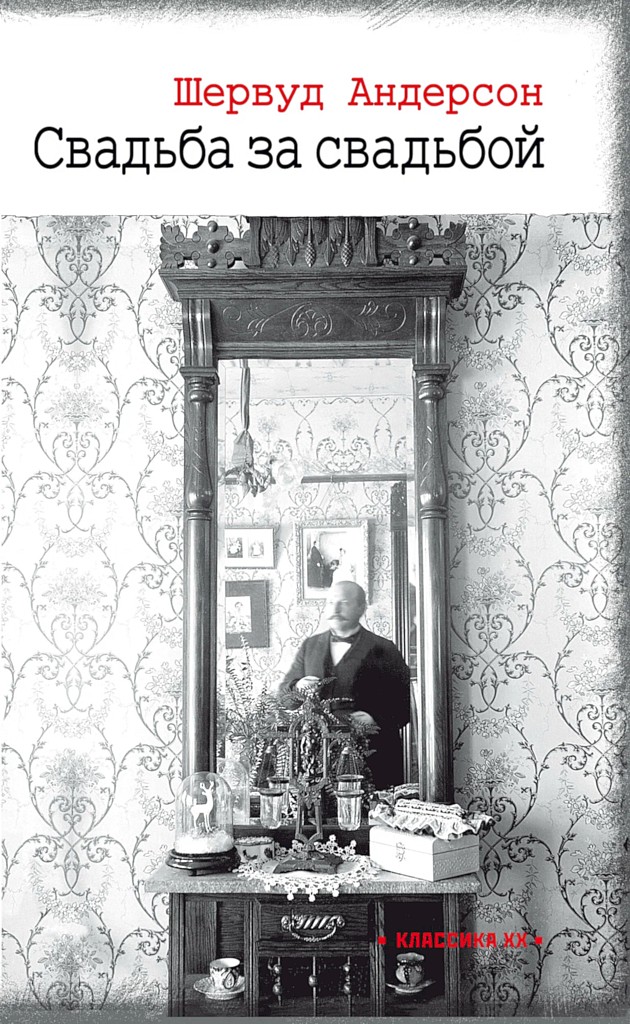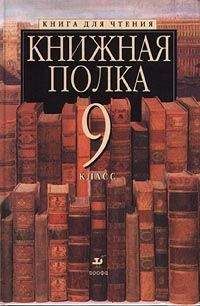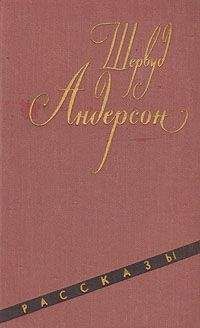За пределами дома он почувствовал себя лучше. Беспричинный испуг теперь сменился какой-то слабостью, и ему пришлось всего на минуту присесть на ступеньки, а она стояла рядом и ждала. Но вот слабость прошла, и он поднялся. Ночь была ясная, темная. Он вздохнул полной грудью, и мысль, что он больше никогда не зайдет туда, откуда только что вышел, принесла ему невероятное облегчение. Он чувствовал себя таким молодым и сильным. Уже совсем скоро на восточном склоне неба появится прожилка света. Когда он доберется до Натали и они войдут в поезд, то сядут в вагоне непременно с восточной стороны. Как будет приятно наблюдать за наступлением нового дня. Воображение его бежало впереди тела, и он уже видел, как сидит рядом с женщиной в поезде. Из наружной темноты они войдут в ярко освещенный вагон за несколько минут до зари. В вагоне люди будут спать, устроившись на своих сиденьях, и видно будет, как этим людям неудобно, как они устали. Воздух будет спертый из-за затхлого, натужного дыхания людей, заключенных здесь, в тесноте. Они почувствуют резкий, тяжкий запах одежды, что так долго впитывала кислые выделения тел. Они с Натали сядут в поезд до Чикаго и сойдут там. И быть может, сразу пересядут на другой поезд. А нет — так останутся на день или два. Они будут строить планы, они будут вести долгие разговоры. Отныне должна была начаться новая жизнь. Ему и самому предстояло поразмыслить над тем, как распорядиться остатком своих дней. Как это все странно. У них с Натали не было никаких планов, кроме того чтоб сесть в поезд. А теперь его воображение впервые попыталось проникнуть за пределы этой минуты, прокрасться в будущее.
Славно, что ночь выдалась ясная. Как же я ненавижу пускаться в путь, тащиться на вокзал под дождем. Какими яркими становятся звезды в предрассветный час. А Кэтрин говорила. Стоит послушать, что она говорит.
Она с какой-то ожесточенной откровенностью рассказывала ему о том, как ей не нравится миссис Уэбстер, до чего она всегда ей не нравилась; она говорила, что все эти годы оставалась в доме только ради него.
Он повернулся взглянуть на нее, и она посмотрела прямо ему в глаза. Они стояли очень близко друг к другу, почти так же близко, как могли бы стоять влюбленные, и в неверном свете ее глаза были как-то странно похожи на глаза Натали. В темноте они сияли, казалось, так же, как сияли глаза Натали в ту ночь, когда он лежал рядом с нею на лугу.
Возможно ли, что новое чувство, явившееся ему, чувство, будто можно восстановить, возродить себя, любя других, входя в распахнутые двери домов других и выходя наружу, — это чувство должно было явиться ему через женщину Кэтрин, а не через Натали? «Хм, и это свадьба, каждый ищет свадьбы, все только и заняты тем, что ищут свадеб», — сказал он самому себе. В Кэтрин, как и в Натали, было что-то тихое, прекрасное, сильное. Быть может, если бы за все эти мертвые, слепые годы, что он жил с нею под одной крышей, выдалась минута, когда они с Кэтрин просто оказались бы наедине, в одной комнате, и в эту минуту двери его дома распахнулись, — может быть, тогда между ним и этой женщиной произошло бы что-то такое, что положило бы начало такому же перевороту, как тот, который вершился в нем сейчас.
«А почему бы и нет, — решил он. — Люди много бы выиграли, если б научились просто держать в уме эту мысль». Его воображение с минуту поиграло этой идеей. Можно было бы ходить по городам и поселкам, входить в дома к людям, выходить из домов и покидать их с какой-то новой почтительностью, если б только однажды получилось утвердить в умах людей мысль: в любую минуту, где угодно можно встретить того, кто несет перед собой, будто на золотом подносе, дар жизни, дар осознания жизни, и дар этот — для всех, кого он любит. Да, эту картину следовало крепко запомнить, этот образ земли и людей, опрятно одетых людей, людей, что несут дары, людей, что познали таинство и прелесть принесения в дар бескорыстной любви. Такие люди, уж конечно, будут содержать себя в опрятности, будут одеваться изящно. Это будут яркие люди, у них будет чутье на красивые вещи, и они будут сознавать свою связь с домами, в которых живут, с улицами, по которым ходят. И ты не сможешь любить, пока не украсишь и не отчистишь свое тело и ум, пока не распахнешь двери своего существа и не впустишь внутрь воздух и солнечный свет, пока не освободишь пространство в своем сознании и воображении.
Джон Уэбстер боролся с самим собой, стараясь отогнать свои мысли и фантазии вглубь, на второй план. Сейчас он стоял перед своим домом, в котором прожил все эти годы, стоял так близко к женщине Кэтрин, и она делилась с ним своими заботами. Пришло время обратить на нее взор.
Она рассказывала, что уже прошла неделя или больше, как она заметила, что в уэбстеровской семье что-то неладно. Большой проницательности тут было не нужно. Это было разлито в самом воздухе. Воздух в доме отяжелел. Что до нее — да, она полагала, что мистер Уэбстер влюбился в какую-то другую женщину, не миссис Уэбстер. Однажды она и сама была влюблена, и ее любимый умер. Она знала, что такое любовь.
Нынче вечером, услыхав наверху голоса, она на цыпочках поднялась по ступенькам. Она не считала, что подслушивает — ведь ее что-то встревожило. Когда-то давным-давно она была в беде, и точно так же услышала голоса наверху, и знала, что в час ее беспомощности Джон Уэбстер заступился за нее.
И с тех давних пор она внушила себе, что останется в этом доме, пока в нем будет оставаться он. Так и так надо работать — отчего же не поработать прислугой, только вот близости к миссис Уэбстер она никогда не чувствовала. Если ты прислуга, то порой не так-то просто сохранять чувство собственного достоинства, и единственный выход — прислуживать тому, кто и сам его сохраняет. Наверное, мало кому под силу это понять. Все воображают, будто люди работают за деньги. А на самом деле никто не работает за деньги. Может быть, людям только кажется, что они работают за деньги. Поступать тая — значит быть рабом, а уж она-то, Катрин, не рабыня. У нее были кое-какие сбережения, да и брат-фермер в Миннесоте, который уж не раз писал ей и приглашал приехать и жить с ним. Сейчас она как раз туда направлялась, хоть и не собиралась жить в доме брата. Тот был женат, и она не собиралась вторгаться в семью. Пожалуй, она лучше купит на свои сбережения собственную маленькую ферму.
— Как бы то ни было, сегодня ночью вы покидаете этот дом. Я слышала, вы сказали, что уезжаете с другой женщиной, и решила, что тоже двинусь своей дорогой, — сказала она.
Она умолкла и стояла, глядя на Джона Уэбстера, а он тоже смотрел на нее — в эту минуту он растворился в созерцании ее лица. В неверном свете оно стало лицом юной девушки. Что-то в нем было такое в эту минуту, что вызвало в сознании Джона Уэбстера образ его дочери — как она смотрела на него в тусклом сиянии свечей там, в комнате наверху. Да, в них было сходство, и в то же время было ее лицо похоже на лицо Натали, каким оно казалось ему в тот день в конторе, когда он и она впервые подошли так близко друг к другу, на лицо Натали, каким оно было потом, в ночной темноте на лугу.
Так легко запутаться.
— Все правильно с твоим отъездом, все в порядке, Кэтрин, — сказал он вслух. — Ты знаешь, что такое… Я хочу сказать, ты знаешь, чем хочешь заняться.
С минуту он постоял молча, раздумывая.
— Вот что, Кэтрин, — заговорил он снова. — Там, наверху, моя дочь Джейн. Я уезжаю, но не могу взять ее с собой, так же как ты не можешь поселиться в доме своего брата там, в Миннесоте. Думаю, следующие пару дней, а может, и недель Джейн нелегко придется. Как знать, чем тут все обернется, — он показал на дом. — Я уезжаю, но я рассчитывал, что ты останешься здесь, покуда Джейн не встанет на ноги. Ты ведь понимаешь, о чем я — покуда не встанет так, чтобы можно было стоять в одиночку.
Тело Джейн Уэбстер, лежавшей на кровати на верхнем этаже, все сильнее сковывала неподвижность, все большее напряжение, пока она прислушивалась к глубинным течениям звуков в доме. Было слышно, как кто-то движется в соседней комнате. Ручка двери стукнулась о стену. Половицы заскрипели. Мать сидела на полу в изножье кровати. Теперь она поднималась. Она оперлась рукой о спинку кровати, чтобы подняться. Кровать чуть-чуть сдвинулась. Она подалась в сторону на своих колесиках. Раздался негромкий урчащий звук. Зайдет ли мать к ней? Джейн Уэбстер не требовалось больше слов, не требовалось никаких разъяснений относительно того, что испортило брак ее матери и отца. Ей нужно было теперь, чтобы ее оставили в покое и она могла подумать над своими собственными мыслями. Мысль, что мать может войти, пугала ее. Это даже нелепо, до чего отчетливо, явственно это ощущение присутствия смерти, смерти, которая каким-то образом была соединена с фигурой ее матери. Если бы сейчас в ее комнату зашла эта женщина, старшая женщина — даже если бы она не произнесла ни слова, — это было бы подобно явлению призрака. От одной мысли, что это происходит, по глади ее тела пробегала мелкая ползучая рябь. Как будто крохотные мохноногие создания сновали вверх-вниз по ее ногам, вверх-вниз по спине. Она беспокойно заворочалась на постели.