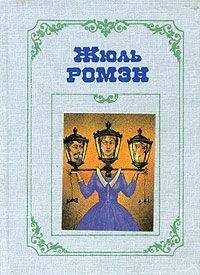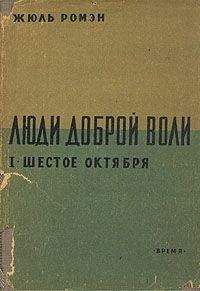„Вам нужны мои деньги?“ Что за вздор!
Вход. Опять главный вход. О, как ужасно все время возвращаться на то же место. Я толкаю вас по рельсам. Посмотрите, там, дальше, очень сухо.
Нет, это не канал. В глубине канала нет такого нежного света.
Я не хочу больше видеть ваше лицо. Оставьте ваше лицо в глубине.
Он не хочет идти дальше. Опять! Я не могу убить его, потому что бродяга прислушивается.
Ночной сторож прислушивается.
Я могу убить вас только в глубине. Софи Паран ждет вас в глубине. Любовь. Солнце любви. Солнце восхода.
Я даю ключ Софи Паран, чтобы она положила ваше лицо в сейф.
Вечная любовь.
Вам будет здесь лучше, чем в канале, мой друг. Обернитесь. Посмотрите. Как приятно здесь мертвецу!»
Приближалась уже середина обеда. Разговор все еще оставался вежливым и безличным. Они с любезным оживлением говорили о вещах, не имевших — оба прекрасно знали это — ничего общего с тем, что являлось целью их встречи. Потом само собой наступило молчание. Прежде, чем прервать его, Саммеко для приличия выдержал паузу.
— Господин депутат. Мы только что вспоминали край, очень мной любимый… У меня связаны с ним хорошие воспоминания… В вашем лице край этот представлен так, как он это заслуживает, блестяще… Но, видите ли, сейчас я в очень тягостном и затруднительном положении… в положении человека, решившегося — скажем прямо, на обман. О, не смотрите чересчур строго… Я уверен, вы меня поймете. Прежде всего даю вам слово, что ни одна живая душа не знает о нашем обеде. Таким образом, если моя… если моя дерзость не встретит у вас снисхождения, вам стоит только забыть этот скромный обед, этого мало интересного собеседника, и все будет кончено. Я же, со своей стороны, сохраню в сокровенном уголке моей памяти впечатление о разговоре, поистине очаровательном.
Он кашлянул, приложил к усам носовой платок из белого шелка.
— Помните, вчера, в редакции вашей газеты, я представился вам, сославшись на моих друзей Босбефов. Вы приняли меня без церемоний и без недоверия; если бы вы знали, как это меня тронуло, чисто по-человечески. Босбефы и в самом деле мои старинные и близкие друзья. Тут я не солгал. Но я сказал вам, что артистический комитет Турени уполномочил меня ознакомить вас со своими планами. Тут я солгал. Солгал по необходимости. Сейчас вы все поймете. Когда вам вручили мою визитную карточку, вы не обратили внимания на мою фамилию?
— Особого внимания, признаться, не обратил.
— Как раз на этих днях вы могли встретить ее в деле, изучением которого вы заняты; правда, в числе фамилий второстепенных. Но, разумеется, не фамилии интересуют вас больше всего. Ну, тем лучше. Я буду говорить вполне откровенно. Мне одному принадлежит инициатива этой попытки. Я ни с кем не говорил о ней. Начну с исповеди. Я один из тех людей, судьба которых построена на случайности, на случайности рождения, связей. Я был вынужден занять положение, нисколько не соответствующее моим склонностям. Мне хотелось бы путешествовать, записывать свои ощущения, жить в странах, богатых стариной и искусством, мечтать, вполне свободно предаваться чувствам. Пьер Лоти, некоторые утонченные англичане, Морис Баррес без политики, я не презираю политики — но ничего не смыслю в ней, вот кому следовало бы стать моими наставниками, вот с кого я мог бы брать пример. Я впутался в дела, нагоняющие на меня скуку и часто внушающие мне отвращение… Относительно ценности этих дел у меня нет никаких иллюзий. Я иногда борюсь за позиции… бог знает какие позиции!.. из честности перед моими компаньонами, из-за семейных обязательств… Но я не хочу бороться с таким человеком, как вы.
Гюро, сперва смотревший на него, немного склонил голову и принялся разглядывать маленькую хрустальную солонку. Правую щеку он положил на приоткрытую ладонь. Другая рука его то играла ножом, то укладывала в правильный ряд крошки на скатерти. Сердце Гюро было полно спокойной горечи, которая доставляла ему некоторое удовольствие. В этот миг только очень неожиданные испытания могли поразить или даже просто удивить его. Он думал о расцвеченном окне Нотр-Дам. Маленькая хрустальная солонка сверкала довольно загадочными, довольно красивыми искорками. Скатерть излучала белизну, по-своему огромную. Что мы знаем обо всем этом? Кто измерил все это? Конечно, между вещами существуют какие-то действенные отношения, порядка лирического или чисто духовного, к которым не допускаются люди, вечно поглощенные своими предприятиями. Нечто похожее на муравейник. Беготня многих тысяч муравьев в светящемся песке. Охотники, преследующие добычу, большими шагами ходят по ним.
Саммеко молчал. Гюро заговорил, наконец, самым безразличным тоном:
— У меня нашлись бы кое-какие замечания о средствах, к которым вы прибегли, чтобы добиться разговора со мной… Мы еще вернемся к этому. Но раз уж мы здесь… Продолжайте, сударь… Я слушаю.
— По-видимому, вы очень дурного мнения обо мне. Но, прошу вас, не дайте остыть из-за этого очередному блюду. Оно приемлемо только в горячем виде. Положить вам?… Разрешите?… Не думайте, пожалуйста, что я кем-то подослан. Напротив, мне самому было бы очень неприятно, если бы об этом узнали. Понимаете, сударь, я присутствовал на собраниях, где очень много говорилось о вас. Я непосредственно участвовал в них. Мои слова тоже сыграли некоторую роль. Я это не отрицаю. Но когда я поразмыслил, мне стало противно. Особенно со вчерашнего утра. Вы даже и не подозреваете, до каких мыслей я дошел. По-моему, дорогой господин Гюро, строй, при котором неизбежны ситуации вроде этой, такой строй отвратителен. Такое общество обречено на гибель.
Голос Саммеко звучал искренно. Мало того, создавалось впечатление, что он без подготовки и впервые высказывал мысли, которые сам только что открыл в глубине своего существа; что он высказывал их с тревогой и с облегчением. Гюро, привыкший угадывать чутьем многие формы лжи, поднял голову и внимательно посмотрел на этого человека. «Неужели он лжет? И в какой мере?»
— Однако, сударь, — заметил он, — я слегка запутался в разнообразных вещах, о которых вы говорите. Прежде всего, кто вы?… Не ошибаюсь ли я?
— Не думаю, чтобы вы могли теперь ошибаться. Я Рожэ Саммеко. Член нефтяного синдиката. Я заинтересован в нем вдвойне: за счет моей жены и за свой собственный. Я принадлежу к числу людей, которые несколько дней тому назад объявили вам войну. Я обсуждал с ними, как лучше устроить на вас облаву, как, говоря прямее, раздавить вас. Видите, я не пытаюсь скрывать что-либо.
— В таком случае, сударь, цель этой встречи… да… вы признаете, что добились ее против моей воли, с помощью известной ловушки?
— Признаю.
— Цель этой встречи я представляю себе весьма смутно.
* * *
Услышав звонок, Сампэйр встает, чтобы пойти открыть дверь. Матильда Казалис хочет удержать его. Пока между ним и красивой девушкой происходит борьба великодушия, Кланрикар открывает дверь.
— Кланрикар — пусть! А вам не позволю.
— Но почему же? Я почла бы за честь открывать дверь. Я почла бы за честь делать здесь все, что угодно.
— Я заставлю вас повторить это при госпоже Шюц. По крайней мере, она станет лучшего мнения о своих обязанностях.
Сампэйр смеется, и смех колышет его бороду и грудь.
— Кстати, о госпоже Шюц. Нужно будет уговорить ее помогать мне по средам. С точки зрения обслуживания мои приемы немного хромают… А вот и Лолерк. Мы потребуем, чтобы он с места в карьер высказал свое мнение.
Лолерк входит, пожимает руки.
— О чем?
— Сегодня утром появилась статейка, по-видимому, как теперь выражаются, «инспирированная». Смысл ее приблизительно таков: «Трудно надеяться, что нам удастся предотвратить войну Болгарии и Турции. Но во всяком случае она не выйдет за пределы Балканского полуострова». Я помню точное выражение: «за пределы известной части Балканского полуострова». Международных осложнений бояться нечего.
— Тем не менее, война будет, — говорит Луиза Арджелати, уже пожилая и все еще очень красивая, благодаря густым белоснежным волосам, которые вьются, черным глазам, чувственному и певучему голосу.
— Да, конечно. Но право на известный эгоизм за нами остается. И даже, помимо эгоизма, балканская война не имеет для человечества такого значения, как война общеевропейская. Однако, мне хотелось бы услышать мнение Лолерка о статье.
Тонкое лицо Лолерка меняет выражение. Лолерк улыбается. Он сдерживает себя. Ему кажется, что в прошлую среду он говорил непозволительно много и чересчур запальчиво. Он дает себе слово не горячиться сегодня. И слушать других.
— Ну, что же, — бормочет он. — Вот и хорошо. Тем лучше. Все к лучшему.
— Лолерк стал оптимистом, — со смехом заявляет Матильда Казалис.
Лолерк бросает на Матильду Казалис быстрый взгляд. «Как она красива сегодня, — думает он. — Просто сердце разрывается! Я запрещаю себе уделять ей особое внимание. Клянусь избегать красноречия. Клянусь не стараться блистать для нее. Достойна ли меня такая рисовка? Как мысли мои разбухают, становятся парадоксальными, искажаются только потому, что я вижу эти чудесные губы, и эти глаза, и эту удивленную улыбку! Недопустимо, отвратительно».