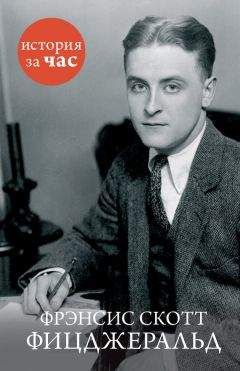и сейчас он мигом пришел к одному из таких решений, сам ничуть этому не удивившись.
Спустя час раздался стук в дверь каюты мистера О’Кейна, после чего на пороге возник профессор Доллард из Уэстонского технического колледжа. [73] Это был худой тихий мужчина лет сорока, в твидовом костюме, который сидел на нем как на вешалке.
— А, вот и вы, — сказал О’Кейн. — Проходите, присаживайтесь.
— Благодарю вас, — сказал Доллард. — Могу я узнать, зачем вы хотели меня видеть?
— Сигарету?
— Нет, спасибо, я уже собирался лечь спать. Скажите же, в чем дело?
О’Кейн кашлянул, подавая сигнал, и тотчас из ванной комнаты позади Долларда появился дюжий стюард Кейтс, запер на ключ входную дверь и стал перед ней на страже. Следом из ванной вышел Гастон Т. Шеер собственной персоной. Узнав его, Доллард мгновенно побагровел.
— Э, добрый вечер… — промямлил он, — мистер Шеер. Что все это значит?
И он поспешно снял очки, ожидая, что Шеер с ходу ударит его по лицу.
— Что вы преподаете, профессор?
— Математику, мистер Шеер… я вам это уже говорил. С какой целью меня сюда позвали?
— Вам следовало бы заниматься своим делом, — сказал Шеер. — Лучше бы вы сидели у себя в колледже и учили студентов, вместо того чтобы втираться в компанию солидных людей.
— Но я вовсе не втирался…
— Не стоит затевать такие игры с людьми, которые могут купить тебя со всеми потрохами десять тысяч раз и при этом даже не заметят, что потратились на покупку.
Доллард поднялся со стула.
— Ты откусил больше, чем сможешь проглотить, — продолжил Шеер. — Ты всего-навсего жалкий учителишка, попытавшийся прыгнуть выше своей головы.
Стюард Кейтс нетерпеливо пошевелился. Он оставил полученные авансом двести фунтов в своем рундуке и хотел скорее покончить с этим делом, чтобы вернуться к себе и припрятать их понадежнее.
— Я все еще не понял, в чем меня обвиняют, — сказал Доллард.
На самом деле он прекрасно понимал, в какую историю влип. Давным-давно он взял себе за правило избегать богатых самодуров, а сейчас его угораздило стать поперек дороги, пожалуй, наихудшему из людей этого сорта.
— Ты откусил больше, чем сможешь проглотить, — мрачно повторил Шеер, — но больше ты такой ошибки не сделаешь. Потому что скоро ты будешь кормить рыб там, за бортом, уяснил?
Мистер О’Кейн, перед тем основательно заправившийся виски, очень живо представил себе Клода Хэнсона, всегда готового отдать жизнь за мистера Шеера, на месте профессора Долларда, который отнюдь не предлагал себя в жертву. Еще оставались мгновения, когда Доллард мог позвать на помощь, но он чувствовал свою вину и не смог выдавить из себя крик. А потом все его силы ушли на борьбу за возможность дышать — борьбу, которую он быстро проиграл, так и не издав ни звука.
Минна Шеер ждала на прогулочной палубе, развлекаясь перемещениями с номера на номер по нарисованным мелом клеткам шаффлборда. [74] Она была взволнована и счастлива. Делая шаг за шагом, она ощущала себя юной, босоногой и бесшабашной. Она тоже могла играть — какую бы игру с ней ни затеяли. Слишком долго она была примерной девочкой, но сейчас большинство знакомых ей людей вдруг пустились во все тяжкие, и для нее стало волнующим открытием то, что и сама она способна на такие вещи, получая при этом огромное удовольствие. Ее кавалер запаздывал, но это придавало ощущениям еще большую остроту и прелесть. Периодически она поднимала глаза от расчерченной палубы и, вполне довольная собой, оглядывалась на белые пенистые буруны в кильватерной струе лайнера.
Женщина из «Клуба 21» [75]
Ах, что за день выдался у Рэймонда Торренса! До чего же приятно раз в пять лет возвращаться сюда, сознавая, что ты уже прочно врос корнями в иную землю, далекую от всех мегаполисов. Они с Элизабет проснулись в окружении застывшей музыки на пересечении Пятой авеню и 59-й улицы [76] и первым делом нанесли визит его издателям на Пятой авеню. Элизабет — по крови наполовину яванке, впервые приехавшей в Америку, — чрезвычайно понравилось в издательстве, поскольку на тамошнем стенде во множестве красовались экземпляры только что вышедшей книги ее мужа. Ей также понравился магазин, где она крепко сжимала руку Рэя всякий раз, когда люди справлялись о его книге, и еще крепче — когда они ее покупали.
Обедали они в клубе «Аист» [77] с Хэтом Милбэнком, университетским однокашником и фронтовым товарищем Рэя. Разумеется, после стольких лет никто там не узнал Рэя, но зато один из посетителей вошел, неся в руках его книгу с уже помятой суперобложкой. После обеда Хэт звал их в Олд-Уэстбери [78] посмотреть игру в поло с его участием, однако они предпочли вернуться в отель для послеобеденного отдыха, к которому привыкли на Яве. Да и впечатлений для начала набралось уже предостаточно. Элизабет написала письмо детям в Суву, не преминув отметить, что «весь Нью-Йорк» зачитывается книгой их отца и что всех здесь потрясла сделанная Дженис фотография девочки, пораженной тропической фрамбезией.
Вечером они отправились в театр, где шла пьеса Уильяма Сарояна. А через пять минут после поднятия занавеса объявилась женщина из «Клуба 21». [79]
Это была красивая брюнетка лет тридцати пяти. Усевшись рядом с Рэем Торренсом, она продолжила начатый ранее разговор, ничуть не понижая голос, как будто все еще находилась на улице. Элизабет стало за нее неловко — женщина явно не осознавала, что мешает окружающим. Они пришли вчетвером — двое заняли места в предыдущем ряду, а женщине составил пару высокий импозантный мужчина. Женщина наклонилась вперед, беседуя с сидящим там приятелем и отвлекая Рэя от спектакля, но это было еще терпимо до момента, когда она произнесла голосом, наверняка донесшимся до самой сцены:
— Давайте вернемся в «Двадцать один»!
Ее сосед ответил шепотом, и на несколько мгновений установилась тишина. Затем женщина издала протяжный и громкий вздох, переходящий в стон, сквозь который можно было расслышать слова: «О боже мой…»
Приятель спереди обернулся с такой сладкой увещевательной улыбкой, что Рэю подумалось: не иначе, рядом сидит какая-то очень известная и влиятельная особа — из Асторов, или Вандербильтов, или Рузвельтов.
— Подожди еще немножечко, — попросил ее приятель.
Женщина из «Клуба 21» резким движением навалилась на спинку переднего кресла и выдала довольно громкую, но невнятную тираду, в которой можно было разобрать лишь часто повторяемое название все того же клуба. А когда она раздраженно откинулась назад и снова простонала: «Боже мой!» — на сей раз по адресу пьесы, — Рэймонд повернулся к ней и

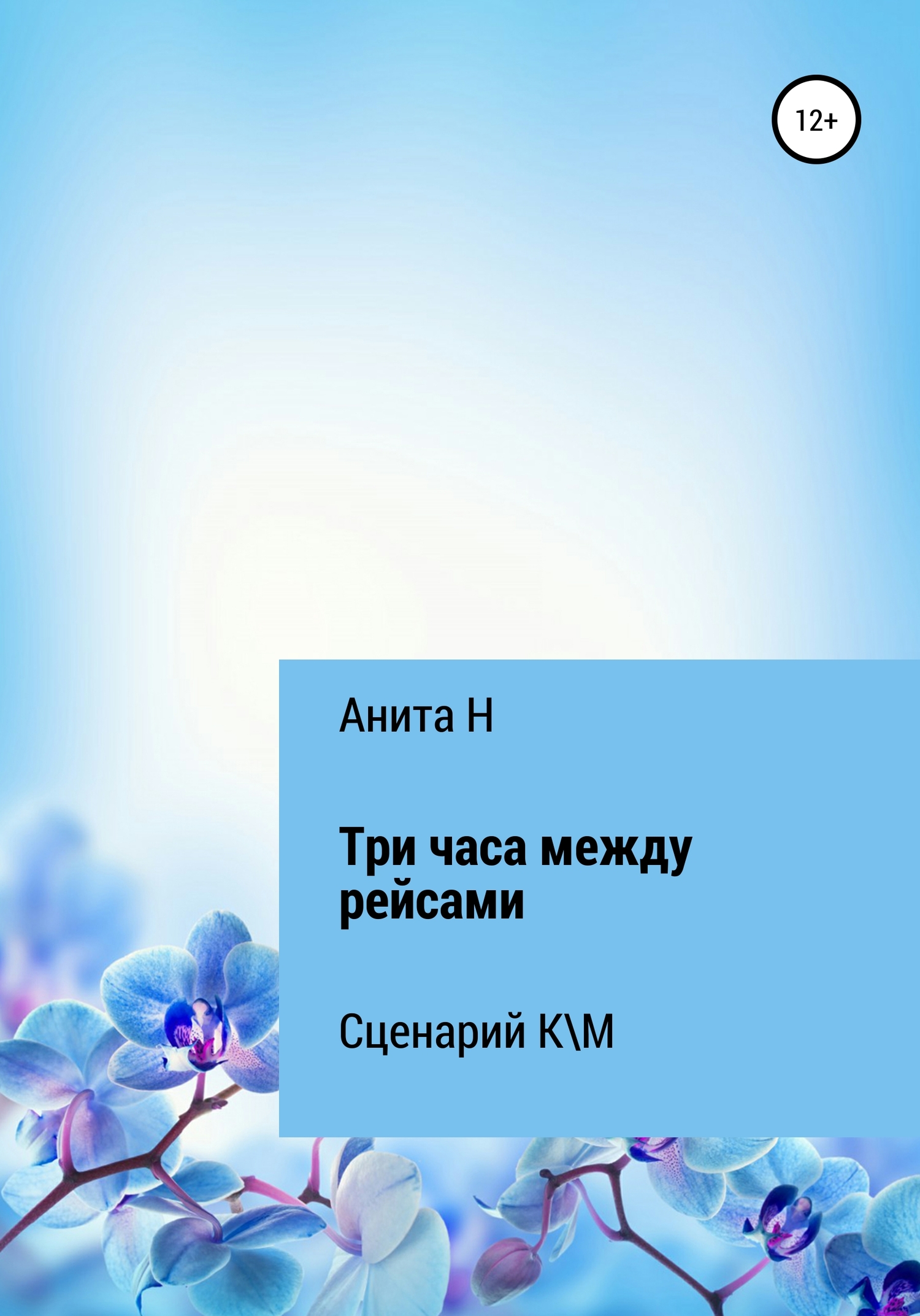


![Фрэнсис Фицджеральд - Три часа между рейсами [сборник рассказов]](https://cdn.my-library.info/books/137285/137285.jpg)