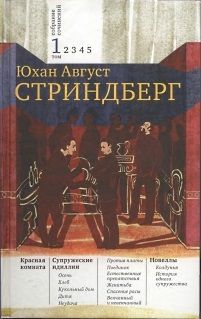— Молчи! — кричал он на женщину.
— Молчи сам! Не можешь ты дать спать детям?
— Убирайся к черту с детьми! Что, это мои дети? Я, что ли, должен отвечать за то, что другие набезобразничали? Я, что ли, набезобразничал? Что? Есть у меня дети? Заткнись, не то я пущу тебе рубанком в голову.
— Послушай, мастер,— заговорил сапожник,— не надо так говорить о детях; Бог посылает детей на свет.
— Это ложь, сапожник! Черт посылает их! А потом безобразные родители говорят, что виноват Бог! {74} Постыдитесь!
— Ах, мастер, мастер! Не надо так проклинать. В Писании сказано, что детям принадлежит Царствие Небесное.
— Вот как! Так такие штуки есть и в Царствии Небесном?
— Боже, как он говорит! — воскликнула разгневанная мать.— Если у него когда-нибудь у самого будут дети, то я буду молиться, чтобы они были больные и калеки; я буду молиться, чтобы они были немыми, слепыми и глухими; я буду молиться, чтобы они попали в исправительное заведение и на виселицу; вот так.
— Сколько угодно, безобразная баба {75}; я не собираюсь пустить на свет ребят, чтобы они мучились, как собаки. Вас надо засадить в работный дом за то, что вы родите этих несчастных существ. Вы замужем? Да! Так потому, что вы замужем, вы должны безобразничать? А?
— Мастер, мастер! Бог посылает детей!
— Это ложь, сапожник! Я читал в газете, что это проклятый картофель виноват в том, что у бедных столько детей, потому что, видите ли, картофель содержит в себе две материи или два тела, которые называются кислород и азот; если эти вещества встречаются в определенном соединении и количестве, тогда женщины становятся многоплодными.
— Но как же это изменить? — спросила разгневанная мать, чувства которой несколько улеглись во время интересного разъяснения.
— Не надо больше есть картофеля, это вы, кажется, должны понимать!
— Что же еще есть, если нельзя больше есть картофеля!
— Бифштекс, сударыня, вот что ты должна есть! Бифштекс с луком! Что! Вкусно? Или шатобриан! Знаешь ли ты, что это такое? А? В «Отечестве» писали недавно: одна женщина приняла спорынью и чуть было не погибла вместе с ребенком.
— Что ты говоришь? — сказала мать и насторожилась.
— Тебе любопытно знать? А?
— Правда ли, что спорыньей?..— спросил сапожник и подмигнул.
— От этого у вас печенка и легкие выскочат, да еще и наказание за это полагается тяжелое; и так и следует.
— Следует ли? — спросил сапожник глухим голосом.
— Конечно, следует! Кто безобразничает, должен быть наказан; и нельзя убивать своих детей!
— Детей! Ведь это разница,— сказала покорно разгневанная мать.— Но откуда берется это вещество, о котором вы говорите, мастер?
— Ага, так ты еще хочешь плодить ребят, хотя ты и вдова и у тебя их пятеро! Опасайся этого черта сапожника; он очень ловок с бабами, хотя и богобоязнен! Одолжайся, сапожник!
— Значит, есть такое растение?..
— Кто тебе сказал, что это растение? Разве я сказал, что это растение? Нет! Это зоологическое вещество. Видишь ли, все вещества, а их в природе около шестидесяти, разделяются на химические и зоологические; это вещество по-латыни называется cornutibus secalias {76} и встречается за границей, например на Калабарском полуострове.
— Оно очень дорогое, мастер? — спросил сапожник.
— Дорогое! — повторил столяр и нацелился рубанком, как карабином.— Страшно дорогое!
Фальк с большим интересом слушал этот разговор; теперь он вздрогнул, услыхав в открытое окно, что на улице остановился экипаж и два женских голоса, которые ему показались знакомыми, стали разговаривать:
— Этот дом хорошо выглядит.
— Он хорошо выглядит? — спросила старшая дама.— Я нахожу, что он выглядит ужасно.
— Я думаю, что он хорошо выглядит для нашей цели. Не знаете ли вы, кучер, не живут ли в этом доме бедные?
— Знать-то я не знаю, но думаю, что можно поклясться.
— Клясться грех, так что оставьте это! Подождите нас здесь, пока мы взойдем туда и сделаем наше дело.
— Послушай-ка, Евгения, не поговорить ли нам сперва здесь внизу с детьми,— сказала госпожа Гоман госпоже Фальк и остановилась.
— Да, конечно можно. Пойди-ка сюда, мой милый мальчик! Как тебя звать?
— Альберт,— ответил маленький бледный мальчик лет шести.
— Знаешь ли ты Христа, мальчик?
— Нет! — ответил мальчик смеясь и засунул палец в рот.
— Это ужасно! — сказала госпожа Фальк и взялась за записную книжку.— Я записываю: «Приход Святой Катерины. Белые горы. Глубокий духовный мрак у малолетних». Можно сказать — мрак?
— А ты не хочешь узнать его? — спросила она опять у мальчика.
— Нет!
— Хочешь монетку, мальчик?
— Да!
— Надо сказать: пожалуйста!.. «В высшей степени беспризорные; но мне удалось лаской побудить их к лучшему поведению».
— Какой ужасный запах! Пойдем отсюда, Евгения! — попросила госпожа Гоман.
Они поднялись по лестнице и вошли в большую комнату, не постучав.
Столяр взял рубанок и стал им стругать суковатую доску, так что дамам пришлось кричать.
— Жаждет ли здесь кто-нибудь милости и избавления? — закричала госпожа Гоман, в то время как госпожа Фальк брызгала на детей из пульверизатора, причем те начали плакать, когда им попало в глаза.
— Вы предлагаете избавление, сударыня? — спросил столяр, прервав свою работу.— Откуда оно у вас? Быть может, есть еще благотворительность, кротость и высокомерие? А?
— Вы грубый человек и будете осуждены,— ответила госпожа Гоман.
Госпожа Фальк взяла записную книжку и сказала:
— Хорош.
— Говорите,— сказала госпожа Гоман.
— Это мы знаем! Быть может, вы хотите поговорить со мной о религии, сударыни? Я могу говорить обо всем. Знаете ли вы, сударыни, что в восемьсот двадцать девятом году в Никее был собор, где Святой Дух был принят в Шмалькальденский договор? {77}
— Нет, мы не знаем этого, добрый человек!
— Почему ты называешь меня добрым? Никто не добр, кроме Бога, так сказано в Писании.— Вы, значит, не знаете Никейского собора восемьсот двадцать девятого года, сударыни? Как же вы хотите учить других, когда вы сами ничего не знаете? Если же теперь очередь за благотворительностью, то делайте это, пока я повернусь к вам спиной, ибо истинная благотворительность совершается втайне. Проделывайте это с детьми, они не могут защищаться; но нас оставьте в покое. Дайте нам работы, если хотите, и научитесь оплачивать труд, тогда вам не придется так шляться! Понюшку, сапожник!
— Можно записать: «Большое неверие, совершенная закоренелость», Эвелина? — спросила госпожа Фальк.
— Упорство лучше, дорогая Евгения.
— Что вы записываете, сударыни? Наши грехи? Тогда эта книга, наверно, мала.
— Плод так называемых рабочих союзов…
— Очень хорошо,— сказала госпожа Гоман.
— Бойтесь рабочих союзов,— сказал столяр.— Сотни лет боролись с королями, но теперь мы открыли, что это не их вина; теперь мы будем бороться с бездельниками, живущими чужим трудом; тогда мы доживем кое до чего!
— Молчи, молчи! — сказал сапожник.
Гневная мать, которая обратила внимание на госпожу Фальк, воспользовалась этой паузой и спросила:
— Простите, вы не госпожа Фальк?
— Совершенно нет! — ответила та с уверенностью, поразившей даже госпожу Гоман.
— Но, боже мой, как вы похожи на нее, сударыня! Я знала ее отца, сигнальщика Ропока, когда он был еще матросом!
— Это очень хорошо, но к делу не относится… Живут ли здесь еще люди, нуждающееся в искуплении?..
— Нет,— сказал столяр,— искупления им не надо, но пища или одежда, или, еще лучше, работа, много работы и хорошо оплачиваемой. Но лучше вам не входить, потому что у одного из них корь…
— Корь! — воскликнула госпожа Гоман.— И нам не сказали ни слова! Пойдем, Евгения, мы пришлем сюда полицию! Тьфу! Вот так люди!
— Но дети! Чьи эти дети? Отвечай! — сказала госпожа Фальк и погрозила карандашом.
— Мои, добрая барыня,— ответила мать.
— А где муж? Где муж?
— Он больше не показывается,— сказал столяр.
— Тогда мы пошлем за ним полицию. И его засадят в работный дом. Здесь все должно стать иначе. Ведь правда же, это хороший дом, как я и говорила, Эвелина!
— Не присядут ли сударыни? — спросил столяр.— Сидя удобней беседовать; у нас только нет стульев, но это ничего; у нас нет и кроватей, их поглотил добавочный налог {78} на газовое освещение; для того чтобы вам не приходилось ночью возвращаться из театра впотьмах, у нас нет газа, как видите; и на водопровод, чтобы вашей прислуге не приходилось подыматься по лестницам; у нас нет водопровода; и на больницу, чтобы ваши сыновья не лежали дома… {79}
— Пойдем, Евгения, бога ради; ведь это же становится невыносимым.