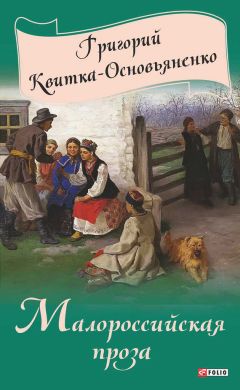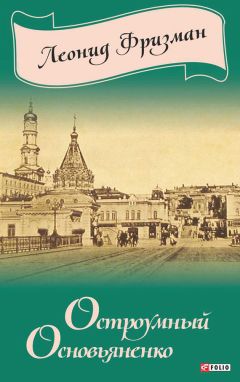Так и вышло. Пришла ввечеру, хоть и пила там сколько горелки, а таки есть никто не дал. Нечего делать: принялась и за отвешенный хлеб.
Тихон не очень ей уважал. Утром опять отвесил каждому и говорит жене:
– Хоть ешь, хоть на вечер спрячь.
Не ругала же она его нимало! Куда! на все заставка (корка). Было и ему, было и всему роду; далее было и тому, кто и безмен выдумал, и кто его продает… а таки, нечего делать, свой паек отбирала исправно.
Эге! Хоть же и сама видела, что хорошо выдумал ее муж: потому что у них, было, хлеб пекут три раза на неделю, а уже за Тихоновым порядком только два раза, и муки меньше идет, потому что Тихон так все рассчитал, чтобы как раз на их семью становилось и нигде чтобы ни пылиночки не девалось; а все-таки была ему добрая молитва, как с амбара весом берет муку, как выпеченный хлеб ему отдает и как от него фунтами на день получает. А Тихон слышит все это и не уважает; думает об своем.
Кто занимал у него деньги, ко всем бросился; с кого возьмет деньгами, самое истое, а росту (процентов) и не спрашивает и не берет, хоть кто и дает; пускай, говорит, когда-нибудь отдашь, теперь всякому нужда. Когда же кто не может деньгами уплатить, то он берет всем по согласию: возьмет и одежу, и воз, и ярмо, не откажется ни от самого бездельного, лишь бы хоть что-нибудь да взять, потому что у него было что-то на уме. Берет, когда до чего человеку приходит, что не сможет зимою прокормиться, берет, говорю, и скотину; и когда она в такой цене, что долгу меньше, то еще хозяину и доплатит. Да так и собрался: то своих было волов десять пар, а теперь уже у него было двадцать пар; есть и возы и все к ним нужное. Его два сына, а то взял пять мальчиков, сирот, таких, что еще до какого времени, а уже им пришлось по-под окнами таскаться, а он их взял и на свою одежу, и на харч и говорит:
– Как подрастут, наделю их всячиною и хозяевами устрою, когда-то еще жив буду!
Люди, смотря на Тихоновы сборы, смеются с него в глаза.
– Что это ты думаешь? – говорят ему. – Тут дай бог самому с семьей пропитаться, а он еще и дармоедов набирает: корму совсем на зиму не будет, а он отовсюду скотину собирает. О, чтоб его с его мудростями!
Да даже слезы утирают смеясь, а он и не уважает:
– Что же, – говорит, – когда мне кажется, что так надо делать? Наступила и жатва. Не приведи господь к такой жатве до конца веку всякого православного христианина да и самого турка, француза, немца и таки всякого человека! То не жатва была, а горе и беда!.. Никто и не думал серпов приготовлять. Выйдут на ту горькую ниву, муж косою машет, машет, далеко пройдет… а жена далеко за ним подбирает, да насилу наберет сноп, да такой, что и малое дитя до дому донесет. Так как выкосят ниву, свяжут снопы, сложат в копны… так и копны смочат горькими слезами, потому что было посеяно, примером говоря, шесть мешков, а когда вымолотятся семена, то и хорошо; потому что снопы такие, что за ветром полетят: одна солома. Много и таких было, что и косою не захватить; вырывали люди, выбирая по стеблышку… так тут ожидай добра!..
Вот тогда уже Брус принялся за свое. Поготовив все, что надо было, пошел с сыновьями и батраками в церковь, отслужил молебен, помолился Богу и попросил батюшку-священника к себе. Что бог дал, пообедали, запрягли возы, батюшка освятил воду, окропил Тихона, сынов, батраков и возы, да и тронулись с божьею помощью.
Хоть Тихон и не говорил никому, куда и зачем он едет, хоть ему кое-кто снова смеялись и упрекали – один скажет:
– Собрался наш Брус на Дон за рыбою, вместо весны, посреди лета: лишатся и волов и всего, сам с кнутиком воротится, потому что в самую голодную сторону поехал.
Другой скажет:
– Тихон видит, что беда, да и бросил жену с дочками, а сам пошел на слободу.
Иной еще что приложит, так что совсем человека осмеяли; однако были и такие, что догадались, что это Тихон задумал и куда и зачем поехал.
– Видишь, – говорят, – что он выдумал! Вот это так; теперь заработает копейку! А ну же, примемся и мы за то же.
Вот те-то люди, что подговаривали Тихона хлебом торговать, так они-то так советовались. Вот и сложились суммою, собрались и поехали. Да, когда б же то искали, где хлеб дешевле; а то в первом месте, где случилось, лишь бы скорее, там и набрали, не рассуждая о цене, да даже по пятнадцать (рублей за четверть) заплатили и привезли домой, а тут уже и беда пришла!.. Уже у кого что было, поели, а нового – даст бог! Негде деваться; надо покупать. Вот они и установили цену: семнадцать (рублей за четверть)! Видите, захотели вдруг барыш слупить и разом разбогатеть.
Так тут им как раз Тихон с фурами и нагрянул. Он ходил не на Дон и не в Черноморию, и никуда на слободу, а пошел в Россию, прямехонько в Ку рскую губернию, где уже он хорошо прослышал, что Бог благословил хлебом и на все хорошим урожаем и что, хотя и там цена поднимается, да еще-таки можно, умеючи, захватить дешевле против людей. Вот там-то Тихон кидался сюда-туда. Ездит, разведывает, расспрашивает и напал на доброго человечка, что ему уступил хлеба по двенадцать на всю сумму; «у него деньжонок было порядочное число – тысячи, так что может, три; да еще с таким договором, что, когда потребуется еще столько хлеба, то обещался, против цены, взять еще двумя ниже».
Вот это же Тихон, что на свои возы наклал, а что нанял к себе фурщиков, да и доставил все домой. Что у себя, а что у людей нанял амбары (тогда везде был простор), ссыпал и муку и зерном, что привез, да и стал прислушиваться, что и как у них в селе поводится.
Услышавши, что те люди, что прежде его понавезли хлеба, установили цену по семнадцати, он собрал других, да и говорит:
– Недоброе это дело! еще только люди начали бедствовать, так тут с них и тянут! Нет, не проходится. Когда еще заблаговременно, да вытянешь у человека последнее, то что ему придется делать к весне, как хлеб еще дороже будет, а достатку ни у кого не станет: да и великий же грех у человека при нужде последнее тянуть. Погонимся за барышом, а сколько крови братней напьемся, потому что всяк из нас, видевши, как жена, дети, будут приставать да хлеба просить, так тут не только все имение, а именно кровь свою, душу отдашь, чтоб только они не бедствовали от голода. Надо думать, как лучше. У меня хлебца своего есть там что-нибудь; берите, люди добрые!..
– А как у тебя, дядюшка, цена будет? – спрашивали у него.
– Какая цена? Как это можно, чтоб я хлеб, что мне Господь безо всего послал, да стал бы я своему брату продавать? Нет, не будет этого. Берите на пропитание из моего домашнего, а купленный будем сеять, как придет время.
Послышавши это, люди так и шарахнули к старому Брусу.
– Как нам, дядюшка, будешь давать хлеб?
– А вот как: держи свою торбу… вот насыпал… вот и иди себе; тут тебе на месяц; у тебя четыре души; смотри, чтоб стало. Приходи через месяц, опять столько насыплю; а когда не станет, то и не приходи; прежде месяца не дам.
– А деньги?..
– Деньги неси домой. Продает ли кто божий свет? так и тут. Бог послал хлеб святой всем людям, а не мне одному; за что же я с тебя буду деньги брать.
Иной скажет: вот же, дядюшка, ты мне на пять душ дал, а у меня пятое, еще маленькое, четвертый годик…
– Говори! Эка голова! Что ж, что четвертый годик? Разве же оно не хочет есть? Такое съест больше великого. Ты знаешь беду и видишь наше горе, так ты и ешь понемногу, и перетерпливаешь работая; а оно что знает? Захотелось ему поутру? Дай, мама, хлеба. Пообедало себе там, опять снова: дай, мама, хлеба; да все хлеба, да хлеба; рот его не затворяется: все ест, как та, прости, Боже, греха! саранча. Еще бы в добрый год запихнул бы ему рот огурцом, или грушами, или картофелем; теперь же этого ничего нет, а оно того не знает и не смыслит уважить, да знай просит. Как, таки на его долю не дать? Берите, берите.
Много было работы нашему Тихону! Народ так и плывет к нему; его сыновья и батраки то и дело, что отвешивают, а он только раздает… да не всем же без разбора и дает: иного за руку дерг! Да и говорит:
– А подожди, сынок! И ты за хлебом? Ты еще парень молодой, жена тоже, деточек даст Бог; идите, зарабатывайте, а от неимущих не отнимайте.
А иному говорит:
– У тебя, кум, и у самого хлеба благодари Бога! так зачем ты у бедного долю хочешь отнять? Ты и сам сможешь частичку ему подать.
Эге! Да и отучил, кому не должно, чтобы приходили к нему; а раздавал только бедным да у кого, при недостатках, велика семья да отец и мать старые, а дети маленькие; да еще когда кто в семье больной. А что малых детей приучил, так изо всего села!
Только что даст бог утро, то все к ему бегут с большим шумом:
– Дедушка! дай хлебца! – то он их за руку, да в хату, а там уже хлеб напечен и на куски порезан.
А кто же его напек? Не Брусиха ли, Стеха? Не знаю! таковская! И сама не принимается и дочкам не велит; а что уже мужа своего так величает, сколько может! Он у нее и дурак, и божевольный (сумасшедший), и разоритель, и что через него она с детьми в нищие пойдет, что он все имущество раздаст, проест… и все ему высчитывала. А он и не уважал; как видел, что жена и сама не слушает и дочкам не велит, так он нашел бедных трудолюбивых женщин да и нанял их хлебы печь, каждый божий день, на раздачу детям и нищим, что уже пошли по-под окнами со всех сел.