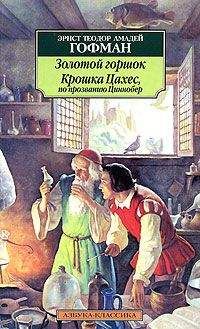дорожил этим сосудом, как подарком князя, торчат маленькие, тоненькие ножки.
— Боже… боже, — воскликнул в ужасе камердинер, — боже!.. Боже!.. Если я не ошибаюсь, эти ножки принадлежат его превосходительству господину министру Цинноберу, моему хозяину!.. — Он подошел поближе и, заглянув в сосуд, крикнул, дрожа от страха: — Ваше превосходительство… ваше превосходительство… помилуйте, что вы делаете… чем вы заняты там в глубине?
Поскольку Циннобер не ответил, камердинер, по-видимому, решил, что их превосходительство в опасности и что всякую почтительность пора отбросить. Он схватил Циннобера за ножки и вытащил его… Ах, мертвы, мертвы были их крохотное превосходительство! Камердинер принялся громко причитать; сбежались егерь, челядь, срочно послали за лейб-медиком князя. Камердинер тем временем вытер своего бедного, несчастного хозяина чистыми полотенцами, положил на кровать, прикрыл шелковыми подушками, оставив на виду лишь маленькое, сморщенное личико.
И вот явилась фрейлейн фон Розеншён. Сперва она, бог весть каким образом, успокоила народ. Теперь она шагала к усопшему Цинноберу, за ней следовала старая Лиза, родная мать Маленького Цахеса… Циннобер был сейчас и впрямь красивее, чем когда-либо при жизни. Маленькие глазки были закрыты, носик был белый-пребелый, на губах застыла едва заметная кроткая улыбка, но главное — его каштановые волосы лежали прекрасными локонами. Барышня погладила малыша по голове, и в тот же миг тускло вспыхнула багряная полоса.
— Ага, — воскликнула барышня, и глаза у нее засияли от радости, — ага, Проспер Альпанус!.. Ты держишь слово, великий искусник!.. Судьба его свершилась, позору конец!
— Ах, — сказала старая Лиза, — ах ты господи, да разве же это мой Маленький Цахес, тот никогда не был так красив. Напрасно я выбралась в город, вы дали мне скверный совет, милая барышня!..
— Не ворчите, старая, — отвечала барышня, — если бы вы точно следовали моему совету и не проникли в дом раньше, чем я сюда пришла, все обстояло бы для вас лучше… Я повторяю, покойничек, лежащий вон там на кровати, — это воистину и безусловно ваш сын, Маленький Цахес!
— Ну, а если, — воскликнула с загоревшимися глазами крестьянка, — ну, а если их крохотное превосходительство, лежащее вон там, действительно мой ребенок, то, значит, я получу в наследство все прекрасные вещи, которых здесь полно, весь дом со всем содержимым?
— Нет, — сказала барышня, — этого не вернуть, вы упустили тот миг, когда можно было добыть деньги и всякое добро… Вам, я это сразу сказала, вам богатство не суждено…
— Ну, так нельзя ли мне, — продолжала старуха, и на глазах у нее показались слезы, — ну, так нельзя ли мне хотя бы завернуть моего бедного крохотульку в передник и отнести домой?.. У нашего господина пастора много славных чучел, есть и птички, и белочки, так пусть он велит сделать чучело моего Мленького Цахеса, оно будет стоять у меня на шкафу, в красном кафтане, с широкой лентой и большой звездой на груди — на вечную память!..
— Это, — воскликнула барышня почти раздраженно, — это совсем нелепая мысль, об этом не может быть и речи!..
Старуха принялась всхлипывать, ныть, жаловаться.
— Что толку мне, — говорила она, — что мой Маленький Цахес достиг высоких чинов, большого богатства?.. Останься он у меня, я бы вырастила его в бедности, он никогда бы не упал в эту проклятую серебряную штуковину, он был бы жив и, может быть, приносил бы мне радость и счастье. Носи я его в своей корзинке для хвороста, люди жалели бы меня и подбрасывали бы мне монетку-другую, а теперь…
В прихожей послышались шаги, барышня выпроводила старуху, велев ей ждать за дверью внизу и обещав, что, уезжая, откроет ей верный способ покончить в один прием с нищетой и нуждой.
Розабельверда еще раз приблизилась к малышу и заговорила мягким, дрожащим голосом глубокой жалости:
— Бедный Цахес!.. Пасынок природы!.. Я желала тебе добра!.. Наверно, это было глупо с моей стороны — верить, что внешние блага, которыми я одарила тебя, озарят твою душу и пробудят в ней голос, способный сказать тебе: «Ты не тот, за кого тебя принимают, но старайся подражать тем, на чьих крыльях ты, немощный и бескрылый, вздымаешься!» Но никакого голоса не пробудилось в твоей душе. Твой ленивый, мертвый дух не сумел подняться, ты упорствовал в своей глупости, грубости, гнусности… Ах, если бы ты хоть на миг перестал быть маленьким хамом, ты избег бы позорной смерти!.. Проспер Альпанус позаботился о том, чтобы теперь, когда ты умер, тебя снова считали тем, чем ты казался при жизни благодаря моему могуществу. Если я вдруг когда-нибудь увижу тебя в облике маленького жучка, юркой мышки или проворной белочки, я буду этому рада!.. Спи спокойно, Маленький Цахес!..
Когда Розабельверда покинула комнату, в нее вошел вместе с камердинером лейб-медик князя.
— Боже, — воскликнул лекарь, увидав мертвого Циннобера и убедившись, что его никакими средствами не вернуть к жизни, — боже, как это произошло, господин камерист?
— Ах, — отвечал тот, — ах, дорогой господин доктор, там в прихожей вспыхнул мятеж, или, если иначе сказать, но это одно и то же, разразилась революция. Опасаясь за свою драгоценную жизнь, их превосходительство хотели, наверно, укрыться в туалетном столике, но поскользнулись и…
— Стало быть, — торжественно и взволнованно сказал доктор, — стало быть, он воистину от страха смерти умер!
Дверь распахнулась, и в комнату вбежал побледневший князь Варсануф, а за ним семь еще более бледных камергеров.
— Это правда, это правда? — крикнул князь, но, увидав труп малыша, отпрянул и, возведя глаза к небу, сказал с выражением глубочайшей боли: — О Циннобер!
И семь камергеров воскликнули вслед за князем:
— О Циннобер! — и по примеру князя вынули из карманов носовые платки и поднесли их к глазам.