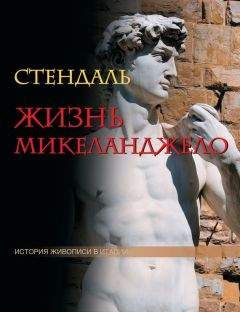— Да, моя дорогая, — произнес он, взглянув наконец на нее, — я тебя боготворю, можешь в этом не сомневаться. Но кто он, этот человек, который боготворит тебя? Чудовище!
При этих словах от нежности Октава не осталось и следа; словно помешанный, он внезапно вырвался из рук Арманс, тщетно пытавшейся его удержать, и убежал. Арманс не двинулась с места. В этот миг раздался звонок к завтраку. Стоило г-же де Маливер увидеть лицо девушки, в котором не было ни кровинки, как она позволила ей уйти из-за стола. Вслед за этим слуга доложил, что виконт де Маливер галопом ускакал в Париж, куда его вызвали по срочному делу.
Завтрак прошел в холодном молчании; доволен был один лишь командор. Его поразило одновременное отсутствие обоих влюбленных, потом он заметил слезы тревоги в глазах у г-жи де Маливер и пришел в восторг, решив, что с женитьбой Октава не все так благополучно, как казалось. «Бывало, что помолвки расторгались и накануне свадьбы», — подумал он и до того размечтался, что даже забыл ухаживать за г-жой де Бонниве и г-жой д'Омаль. Еще больше он обрадовался при появлении маркиза де Маливера, который, несмотря на приступ подагры, приехал из Парижа и был очень разгневан, не застав Октава, заранее им предупрежденного. «Сейчас самый подходящий момент для того, чтобы здравый смысл возвысил наконец свой голос», — сказал себе командор. Сразу после завтрака г-жа де Бонниве и г-жа д'Омаль разошлись по своим комнатам, а г-жа де Маливер пошла навестить Арманс. После этого целый час с четвертью де Субиран был очень занят, а следовательно, и очень счастлив: он старался поколебать решение шурина относительно женитьбы Октава.
Ответ старого маркиза был безукоризненно благороден.
— Деньги, полученные по закону о возмещении, принадлежат вашей сестре, — сказал он. — Сам я нищий. Только благодаря этому возмещению и стала возможна женитьба Октава. Ваша сестра, кажется, еще больше, чем сам Октав, хочет его брака с Арманс, у которой, кстати говоря, тоже есть небольшое состояние. В таком деле, я, как порядочный человек, могу только советовать. Если бы я, в качестве главы семейства, воспользовался своей властью, это означало бы, что я безжалостно стараюсь отнять у моей жены радость провести остаток жизни бок о бок с женщиной, которая так ей дорога.
Госпожа де Маливер увидела, что Арманс чем-то очень взволнована, но говорить не хочет. На все дружеские расспросы девушка неопределенно отвечала, что между ней и Октавом произошла одна из тех маленьких размолвок, которые бывают даже между самыми любящими друг друга людьми.
— Я уверена, что виноват Октав, иначе ты все рассказала бы мне, — вставая, сказала г-жа де Маливер и оставила Арманс одну, оказав этим ей настоящее благодеяние.
К этому времени Арманс окончательно уверилась, что Октав когда-то совершил страшное преступление. Преувеличивая, быть может, его роковые последствия, он, как человек порядочный, считает теперь, что лишь тогда будет иметь право связать ее судьбу с судьбой убийцы — Арманс допускала и это, — когда скажет ей всю правду.
Осмелимся ли добавить, что такое объяснение странностей Октава немного успокоило Арманс? Она спустилась в сад, тайно надеясь, что встретит его там. Она не испытывала больше никакой ревности к г-же д'Омаль, хотя даже самой себе не признавалась, что именно в этом причина ее счастья и умиления. Арманс была полна самого нежного и великодушного сострадания. «Если нужно будет уехать из Франции, отправиться далеко, хотя бы даже в Америку, что ж, мы уедем, — думала она с каким-то радостным чувством, — и чем скорее, тем лучше». Она уже рисовала себе жизнь в полном уединении, необитаемый остров, словом, обстоятельства слишком романические и, главное, слишком затасканные романами, чтобы на них стоило останавливаться. Октав не появился ни в этот день, ни на следующий, и только к вечеру второго дня Арманс получила письмо из Парижа. Никогда еще она не была так счастлива. Письмо дышало самой пылкой и самозабвенной страстью. «Если бы он был здесь в ту минуту, когда писал, он обязательно рассказал бы мне все», — подумала Арманс. Октав признавался ей, что в Париже его удерживает только стыд, мешающий ему поведать свою тайну. «Не всегда, — продолжал он, — чувствую я в себе достаточно мужества, чтобы выговорить роковое слово даже при вас, ибо оно может ослабить чувства, которыми вы удостаиваете меня и без которых мне не нужна жизнь. Не торопите меня, моя дорогая». Арманс поспешила передать ожидавшему слуге ответное письмо. «Самое большое преступление, — писала она ему, — вы совершили, когда уехали от нас». Как же она удивилась и обрадовалась, когда через полчаса перед ней предстал Октав: он ожидал ее ответа в Лабаре, неподалеку от Андильи.
Дни, последовавшие за этим днем, были полны безмятежного счастья. Любовь держала Арманс в таком удивительном ослеплении, что вскоре ей уже стало казаться естественным любить убийцу. Она считала, что преступлением, в котором не смеет признаться Октав, должно быть по меньшей мере убийство. Ее кузен всегда излагал свои мысли так ясно, что она не могла отнестись к его словам как к преувеличению. Ведь недаром же он сказал: «Я чудовище!»
В первом за всю жизнь любовном письме Арманс дала слово не задавать никаких вопросов, и она сдержала свою клятву. Ответ Октава она хранила, как сокровище. Она без конца перечитывала его, потом усвоила привычку ежедневно писать своему будущему мужу. Ей почему-то было стыдно назвать горничной его имя, поэтому свое первое письмо Арманс спрятала в кадку с апельсинным деревцем, столь памятным Октаву.
Она шепнула ему об этом однажды утром, когда все усаживались за стол завтракать. Октав немедленно вышел под предлогом, что ему надо отдать какое-то распоряжение, а когда он через четверть часа вернулся, Арманс с непередаваемой радостью прочла в его глазах живейшее счастье и нежную благодарность.
Спустя несколько дней она осмелилась ему написать:
«Я думаю, что вы совершили какое-то большое преступление. Мы сделаем все, чтобы искупить его, если только это возможно. Но как ни удивительно, я сейчас еще больше предана вам, чем до нашего с вами разговора.
Я понимаю, чего вам стоило ваше признание: это первая большая жертва, которую вы мне принесли, и я не скрою, что лишь с этой минуты я исцелилась от очень дурного чувства, в котором тоже не осмеливалась вам сознаться. Я предполагаю самое худшее, поэтому, мне кажется, вы можете не рассказывать мне никаких подробностей до совершения известного вам обряда. Уверяю вас, с вашей стороны нет никакого обмана. Бог прощает раскаявшихся преступников, к тому же я не сомневаюсь, что вы преувеличиваете свой проступок. Но как бы велик он ни был, я видела ваши страдания и прощаю вас. Вы мне все откроете ровно через год, когда, быть может, я буду внушать вам больше доверия... Вот только я не могу обещать вам, что буду любить вас больше, чем сейчас».
Ангельская доброта, которой дышала каждая строчка этого письма, побуждала Октава хотя бы на бумаге открыть то, что он был обязан сообщить Арманс, но его все еще удерживал стыд: какие слова подобрать для такой исповеди?
Он поехал в Париж посоветоваться с Долье, тем самым родственником, который был его секундантом. Он знал, что Долье — человек чести, очень прямой и к тому же недостаточно умный, чтобы пойти на сделку с совестью или обмануть самого себя. Октав спросил у него, обязан ли он посвятить м-ль Зоилову в некую печальную тайну, которую, не колеблясь, открыл бы до свадьбы ее отцу или опекуну. Он даже показал Долье часть приведенного выше письма Арманс.
— Вы обязаны сказать ей правду, — напрямик ответил ему Долье, — это ваш долг. Нельзя злоупотреблять великодушием мадмуазель Зоиловой. Недостойно благородного Октава обманывать кого бы то ни было, тем более бедную сироту, у которой, быть может, кроме вас, нет ни одного друга среди мужчин вашего семейства.
Эти доводы Октав приводил себе тысячу раз, но в устах честного и твердого человека они приобрели особую убедительность.
Октаву почудилось, что он услышал голос самой судьбы.
Выйдя от Долье, он поклялся себе, что напишет роковое письмо в первом же кафе, которое увидит по правую руку, и действительно, сдержал слово: написал десять строк и адресовал письмо на имя м-ль Зоиловой в замок *** близ Андильи.
На улице Октав оглянулся в поисках почтового ящика. Случаю было угодно, чтобы ящика поблизости не оказалось. Тогда, под влиянием не до конца преодоленного мучительного чувства, заставлявшего все время откладывать исповедь, Октав решил, что такое письмо не следует доверять почте и что будет лучше, если он своими руками положит его в кадку с апельсинным деревцем. У Октава не хватило духа признаться себе, что эта отсрочка — последняя надежда все еще не побежденного стыда.
Ему ни в коем случае нельзя было снова поддаваться тайной боязни признания, которую он почти преодолел в себе с помощью суровых советов Долье. Октав вскочил на коня и поскакал в Андильи.