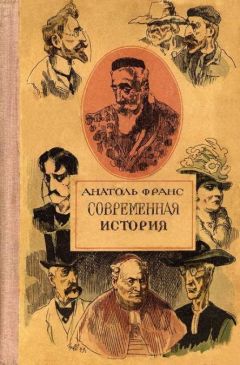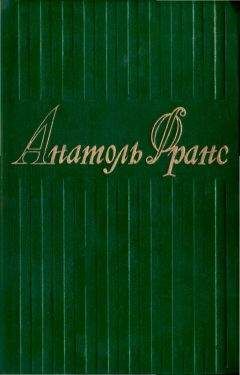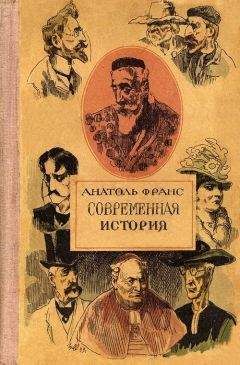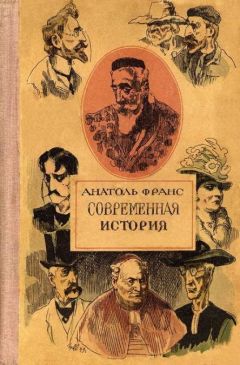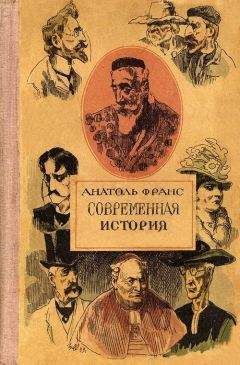Госпожа де Бонмон была кротка и нежна. Только любовь, неумолимая любовь могла привести ее в стан воителей. Она принесла туда душу, созданную, как у Антигоны Софокла, не для ненависти, а для доброжелательства. Она питала жалость к жертвам. Жамон был самой трогательной из жертв, которые ей довелось обнаружить, и преждевременная отставка этого генерала вызывала у нее слезы. Она подумывала о том, чтобы вышить ему подушку, на которой он мог бы покоить свое увенчанное славой чело. Она охотно делала такие подарки, вся ценность которых заключалась в чувстве. Ее смешанная с восхищением любовь к члену муниципалитета Жозефу Лакрису оставляла ей некоторый досуг, чтобы умиляться над бедами национальной армии и кушать пирожные. Она сильно полнела и приобрела вид почтенной дамы. Молодая г-жа де Громанс придерживалась менее великодушного образа мыслей. Сначала она любила и обманывала Гюстава Делиона, а затем и совсем его разлюбила. И Гюстав, снимая с нее на террасе «Прекрасной шоколадницы» светлое манто с розовыми цветами, шепнул ей на ухо лестные словечки: «Дрянь! шлюха!» — в присутствии метрдотеля, почтительно опустившего глаза. На ее лице не отразилось никакого ощущения. Но в глубине души она находила, что он мил, и чувствовала, что опять полюбит его. С своей стороны Гюстав призадумался и понял, что впервые в жизни произнес слова любви. И он направился к столу, где с сосредоточенным видом уселся рядом с Клотильдой. Обед, последний в этом сезоне, прошел невесело. Сквозила меланхолия разлуки и какая-то националистическая грусть. Конечно, еще не теряли надежды,— что я говорю! — питали огромную надежду! Но когда у вас есть все — и люди и деньги, прискорбно ожидать только от будущего, от смутного будущего, удовлетворения ваших давних желаний и настойчивого честолюбия. Один только Жозеф Лакрис сохранял до некоторой степени душевную безмятежность; он считал, что достаточно сделал для своего короля, добившись того, что был избран республиканцами-националистами квартала Грандз’Экюри в члены муниципалитета.
— В общем,— сказал он,— четырнадцатого июля в Лоншане все прошло отлично. Приветствовали армию. Кричали: «Да здравствует Жамон! Да здравствует Бугон!» Чувствовался известный энтузиазм.
— Конечно, конечно,— ответил Анри Леон,— но Лубе нетронутым вернулся в Елисейский дворец, и дела наши в этот день мало подвинулись вперед.
Гюг Шасон дез’Эг, большой бурбонский нос которого был украшен совсем свежим рубцом, сдвинул брови и горделиво изрек:
— Могу вам только сказать, что у каскада была жаркая схватка. Когда социалисты крикнули: «Да здравствует республика! Да здравствуют солдаты!», то мы…
— Полиция,— заметила г-жа де Бонмон,— не должна была бы разрешать такие крики…
— Когда социалисты крикнули: «Да здравствует республика! Да здравствуют солдаты!» — мы отвечали: «Да здравствует армия! Смерть жидам!» — «Белые гвоздики», спрятанные мною в чаще, присоединились к моему кличу. Они закидали отряд «Красного шиповника» целым градом железных кресел. Это было бесподобно. Но что поделаешь? Толпа их не поддержала. Парижане явились со своими женами, детьми, корзинами, сетками, полными припасов… а родственники, приехавшие из провинции, чтобы посмотреть выставку… старые земледельцы с окостенелыми ногами, которые глядели на нас рыбьим взглядом… и еще крестьянки в косынках, недоверчивые, как совы. Разве распалишь такой семейный народ!
— Безусловно, момент был выбран неудачно,— сказал Лакрис.— Кроме того, мы должны до известной степени соблюдать перемирие из-за выставки.
— Все равно,— продолжал Шасон дез’Эг,— мы здорово подрались у каскада. Я лично так хватил гражданина Бисоло, что втиснул ему голову в горб. Он повалился наземь: ни дать ни взять — черепаха. А затем: «Да здравствует армия! Смерть жидам!»
— Конечно, конечно,— глубокомысленно произнес Анри Леон,— но «Да здравствует армия! Смерть жидам!» — это слишком утонченно… для толпы. Это, если разрешите так выразиться, слишком литературно, слишком классично и недостаточно действенно. «Да здравствует армия!» — это звучит красиво, благородно, корректно, но холодно… Да, холодно. А кроме того, позвольте вам сказать, есть только одно средство, одно единственное, чтобы увлечь толпу: паника. Поверьте: чтобы раскачать безоружную массу, надо нагнать на нее страх. Надо бежать и кричать… ну, скажем… «Спасайся, кто может! К оружию!.. Измена!.. Французы, вас предали!» Если бы вы прокричали это или что-либо подобное зловещим голосом, на бегу посреди поляны, пятьсот тысяч человек бросились бы бежать скорее вас, и их нельзя было бы остановить. Это было бы великолепно и потрясающе. Вас сбили бы с ног, затоптали бы, превратили бы в кашу… Но переворот был бы совершен.
— Вы думаете? — спросил Жак де Кад.
— Не сомневайтесь,— продолжал Леон.— «Измена! Измена!» — вот испытанный клич для бунта, клич, который придает крылья толпе, придает одинаковую прыть храбрым и трусливым, вселяет мужество в сто тысяч сердец и возвращает ноги паралитикам. Эх, дорогой Шасон, если бы вы крикнули в Лоншане: «Нас предали!», ваша старая сова с крутыми яйцами в корзине и с дождевым зонтиком и ваш земледелец с одеревенелыми ногами пустились бы бежать, как зайцы.
— Пустились бы бежать? Куда? — спросил Жозеф Лакрис.
— Почем я знаю куда. Разве можно знать, куда побежит толпа во время паники? Да и знает ли она сама? Но не все ли равно? Толчок дан. Этого достаточно. В наше время не устраивают восстаний по системе. Занимать стратегические пункты — это было хорошо в давние времена Барбеса и Бланки. Теперь, при наличии телеграфа, телефона или хотя бы полицейского на велосипеде, всякое заранее намеченное выступление немыслимо. Можете ли вы себе представить, чтоб Жак де Кад захватил полицейский участок на улице Гренель? Нет. Возможны только сумбурные, огромные, шумные выступления. И только страх, всеобщий и трагический страх способен всколыхнуть многолюдные массы народных празднеств и гуляний. Вы спрашиваете меня, куда ринулась бы четырнадцатого июля толпа, возбуждаемая, словно громадным черным знаменем, зловещими криками: «Измена! измена! иностранцы! измена!» Куда бы она ринулась?.. Полагаю, что в озеро.
— В озеро? — повторил Жак де Кад.— Она бы утонула, вот и все.
— Так что ж! — продолжал Анри Леон.— Но тридцать тысяч утонувших граждан — это не пустяк! Неужели министерство и правительство не испытало бы после этого серьезных затруднений и реальной опасности? Разве это не был бы памятный денек?.. Признайте, что вы не политики. Нет в вас нужной закваски, чтобы опрокинуть республику.
— Вы увидите это после выставки,— сказал Жак де Кад с искренней верой.— Я для начала уложил одного в Лоншане.
— А! вы уложили одного? — осведомился с интересом Гюстав Делион.— Что за тип?
— Рабочий-механик… Лучше было бы уложить сенатора. Но в толпе больше шансов схватиться с рабочим, чем с сенатором.
— А что же делал этот ваш механик? — спросил Лакрис.
— Он кричал: «Да здравствуют солдаты!» Я его и уложил.
Тогда молодой Делион, подстрекаемый благородным соревнованием, сообщил, что он лично разбил морду одному социалисту-дрейфусару, кричавшему: «Да здравствует Лубе!»
— Все идет хорошо! — заявил Жак де Кад.
— Могло бы быть и лучше в некоторых отношениях,— сказал Гюг Шасон дез’Эг.— Нам еще рано поздравлять друг друга. Четырнадцатого июля и Лубе, и Вальдек, и Мильеран, и Андре благополучно вернулись к себе домой. Это бы не случилось, если б меня послушали. Но никто не хочет действовать. У нас нет энергии.
— Ну, нет! Энергии у нас хватит. Но сейчас не время для действий. Вот закроется выставка — и мы нанесем решительный удар. Наступит подходящий момент. Францию после празднества будет мутить с похмелья. Она будет в дурном расположении духа. Наступит крах и безработица. Тогда легче всего можно вызвать министерский и даже президентский кризис. Не так ли, Леон?
— Разумеется, разумеется,— ответил Леон.— Но не надо скрывать от себя, что через три месяца мы будем немного менее многочисленны, а Лубе будет немного менее непопулярен.
Жак де Кад, Делион, Шасон дез’Эг, Лакрис, все трублионы хором запротестовали, силясь криками заглушить такое зловещее пророчество. Но Анри Леон продолжал очень ласковым голосом:
— Это фатально! Лубе с каждым днем будет терять свою непопулярность. Его ненавидели, потому что мы представили его в очень мрачном свете, но он постарается не оправдать полностью этой характеристики. Он недостаточно велик, чтобы уподобиться образу, созданному нами для устрашения масс. Мы изобразили Лубе гигантом, который покровительствует парламентским разбойникам и уничтожает национальную армию. Действительность покажется менее страшной. Увидят, что он не всегда покрывает воров и разлагает армию. Он будет присутствовать на смотрах. Это придаст ему вес. Он будет разъезжать в карете. Это импозантнее, чем ходить пешком. Будет раздавать ордена, щедро сыпать академическими значками. Те, кому он пожалует орден или значок, перестанут верить, что он намерен предать Францию иностранцам. Ему посчастливится найти удачные словечки. Не сомневайтесь в этом: удачные словечки — самые глупые. Стоит ему только пуститься в поездку по стране, и его будут встречать овациями. Крестьяне будут кричать на его пути: «Да здравствует президент!», словно это еще тот добрый сыромятник, на которого мы умилялись за его горячую любовь к армии. А вдруг опять клюнет русский союз… У меня мурашки пробегают по коже… Вы увидите тогда, как наши друзья националисты будут впрягаться в карету Лубе. Не скажу, что этот человек — великий гений. Но он не глупее нас. Он старается улучшить свое положение. Это вполне естественно. Мы хотели пустить его ко дну; он нас берет измором.