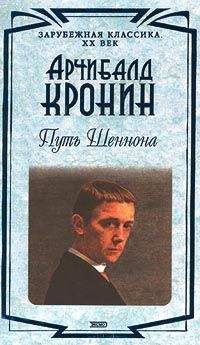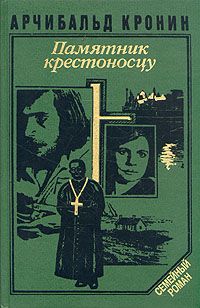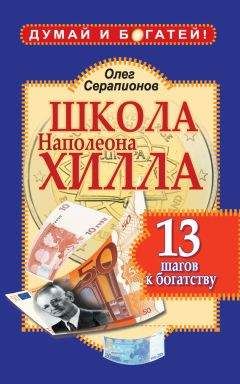— Если я могу быть тут судьей, по-моему, вы ему тоже нравитесь. — Я криво улыбнулся. — Но как бы отнеслись к нему ваши родители?
Она потупилась.
— Давайте работать.
К этому времени из многочисленных молочных проб мы получили в чистом виде грамм-отрицательный организм, в котором я признал бациллу, открытую датским ученым Бангом и названную его именем, — он доказал, что она является причиной жестокой болезни, поражающей рогатый скот и широко распространенной во всем мире. Значит, эта же бацилла вызвала эпидемию среди коров в нашей местности. На основании сделанных мною вычислений мы установили, что около тридцати пяти процентов рогатого скота, не считая овец, коз и прочих домашних животных, являются носителями этого микроба, который мы вывели в больших количествах в специальной бульонной среде.
Мы получили также в чистом виде Брюсовского возбудителя мальтийской лихорадки из тех проб, которые во время моего пребывания в Далнейрской больнице я, естественно, брал у больных, пострадавших от эпидемии так называемой инфлюэнцы; нам во многих случаях удалось также получить его из проб крови, недавно взятых у разных людей и принесенных нам профессором Чэллисом. Таким образом, мы имели теперь возможность сравнить эти два организма — тот, что был найден у животных, и тот, что был найден у человека, — проанализировать их различные реакции и выяснить, нет ли между ними сходства.
Опыты, которые мы проводили, были чрезвычайно сложны, и сначала трудно было даже оценить их значение. Но, по мере того как один положительный результат подтверждался другим, у нас возникло предположение — основанное сначала на догадке, а потом подкрепленное солидными доказательствами, — которое поистине ошеломило нас. Поняв, какой из этого напрашивается вывод, мы недоверчиво уставились друг на друга.
— Не может быть, — медленно сказал я. — Это просто невозможно.
— Нет, может быть, — вполне логично возразила Джин. — И вполне возможно.
Я обеими руками сжал голову — на этот раз меня раздражала ее спокойная прямолинейность. Доктор Мейзерс допоздна задержал меня накануне — вообще он стал возлагать на меня все больше обязанностей, — и это двойное напряжение начинало сказываться на мне.
— Ради бога, — взмолился я, — только не будем ничего предрекать заранее. Нам еще предстоит работать не одну неделю, прежде чем мы подойдем к последнему опыту с антигеном.
Но доказательства продолжали накапливаться, и через три месяца, по мере того как мы приближались к решающему опыту, глубокое, все возрастающее волнение охватило нас. Нервы у нас были напряжены до крайности, а надо ждать несколько часов, чтобы завершился процесс агглютинации, и, поскольку вовсе не обязательно было сидеть в лаборатории, мы на часок-другой уезжали за город, куда-нибудь в окрестности Уинтона.
Никакого мотоцикла у нас, конечно, не было, так как даже Люк не подозревал о том, что мы работаем вместе, но к нашим услугам был трамвай, который за двадцать минут доставлял нас в наше излюбленное местечко, на Лонгкрэг-хилл — поросшую лесом гору, которую еще не успели застроить и откуда открывался вид на реку. Здесь мы садились на мшистый камень и смотрели, как паромы и крошечные пароходики с большущим гребным колесом курсируют вверх и вниз по широкой реке, а далеко внизу, у нас под ногами, раскинулся город, затянутый золотистой дымкой, — лишь блеск купола или тонкого шпиля обнаруживал его. Говорили мы главным образом о встававших перед нами проблемах и с волнением и надеждой обсуждали возможность успеха. Иной раз, утомленный и словно завороженный очарованием минуты, я ложился на спину, закрывал глаза и, как истый провинциал, начинал мечтать: я мечтал вслух о Сорбонне, которую так живо обрисовал нам Чэллис, мечтал о жизни во имя чистой науки, о беспрепятственной возможности исследовать и дерзать.
Верный своему обещанию, которое мне нелегко было выполнять, я ни разу не заговорил с Джин о любви. Понимая ее сомнения и то, что ей пришлось ради меня заглушить в себе голос совести, я решил доказать ей, как необоснованны ее подозрения, — доказать, что она может всецело довериться мне. Только так я мог оправдать себя в ее глазах и в своих собственных.
Когда наступил решающий день, мы поставили последнюю партию пробирок для агглютинации и ушли. Это был четверг, последний день июня, и погода выдалась чудеснейшая; мы чуть ли не боялись того, что ждало нас по возвращении, и не спешили уезжать с горы. Пока мы там сидели, маленький пароходик далеко внизу отправился в свой вечерний рейс к островам в устье реки, на палубе его можно было различить крошечные фигурки немцев-оркестрантов. Они играли вальс Штрауса. Пароходик с трепещущими на ветру флагами, вспенивая воду гребным колесом, весело проплыл вниз по реке и исчез из виду. Однако до нас еще долго доносились звуки мелодии, еле уловимые, но такие сладостные и нежные, как ласка. Блаженный миг! Я не смел взглянуть на мою спутницу, но внезапно со всею ясностью почувствовал, что треволнения этих дней, когда мы работали бок о бок, почти помимо моей воли углубили и закрепили наши отношения. И я понял, что она вошла в мою жизнь как неотъемлемая ее частица.
Мы решили, что пора идти. В этот вечер у меня не было приема, а Джин ввиду важности события устроилась так, чтобы задержаться в Уинтоне до восьми часов.
Пробило пять часов, когда мы добрались до нашей маленькой лаборатории. Сейчас или никогда! Я подошел к термостату и, открыв дверцу, жестом велел моей помощнице вынуть штатив с пробирками. В этом штативе было двадцать четыре пробирки, и в каждой — жидкость, абсолютно прозрачная несколько часов назад, но сейчас, если опыт удался, в ней должны были появиться хлопья осадка. Затаив дыхание, я с тревогой следил, как Джин вынимала штатив. И, увидев его, ахнул.
В каждой пробирке белел осадок. Я не мог говорить. Охваченный внезапной слабостью, я присел на кожаную кушетку, тогда как Джин, изменившись в лице и все еще держа в руках штатив с пробирками, не мигая, глядела на меня.
Значит, это правда: два организма, которые двадцать один год считались самостоятельно существующими и никак друг с другом не связанными, на самом деле являлись одной и той же бациллой! Да, я доказал это. Идентичность их подтверждена морфологически, культурой и опытами агглютинации. Значит, болезнь, широко распространенная среди скота, легко передается людям не только при непосредственном соприкосновении, но и через молоко, масло, сыр и все виды молочных продуктов. Банговская болезнь животных, мальтийская лихорадка Брюса и эпидемия «инфлуэнцы» — все это одно и то же и все обязано своим происхождением одной и той же бацилле, которую мы культивировали здесь, в лаборатории. Голова у меня кружилась, я прикрыл глаза. Мы установили наличие новой инфекции у человека и нашли возбудителя этой инфекции, вызывающего не какое-нибудь малозначительное местное заболевание, а серьезную болезнь, порождающую сильнейшие вспышки эпидемии, равно как и длительное недомогание при более слабой и хронической формах, — болезнь, насчитывающую сотни тысяч жертв во всех странах мира. При мысли об этом у меня сдавило горло. Подобно Кортесу[5], остановившемуся на вершине горы, я вдруг с поразительной ясностью увидел наше открытие во всем его значении.
Наконец Джин нарушила молчание.
— Это замечательно, — тихо сказала она. — Ах, Роберт, теперь можно все опубликовать.
Я покачал головой. Передо мной в ярком свете встало еще более чудесное видение. Стараясь умерить прилив восторга и держаться скромно и с достоинством, как и подобает ученому, я сказал:
— Мы открыли болезнь. И бациллу, являющуюся первопричиной этой болезни. Теперь мы должны приготовить вакцину, которая будет излечивать от нее. Вот когда мы получим такую вакцину, тогда нашу работу можно будет считать завершенной.
Это была чудесная, ослепительно прекрасная перспектива. Глаза Джин загорелись.
— Надо позвонить профессору Чэллису.
— Завтра, — сказал я. Из какого-то ревнивого чувства мне хотелось, чтобы наша победа принадлежала нам одним.
Джин, казалось, поняла меня и улыбнулась; при виде этой улыбки восторженное настроение овладело мной — куда только девалась моя солидность, в один миг исчезло напускное спокойствие.
— Дорогая доктор Лоу, — улыбнулся я ей, — это событие войдет в историю. Надо его отметить. Не согласитесь ли вы пообедать со мной сегодня?
Она поколебалась — щеки ее все еще пылали от волнения — и взглянула на часы.
— Меня будут ждать дома.
— Ну пойдемте, — горячо упрашивал я. — Ведь еще рано. И вы вполне успеете на поезд.
Она посмотрела на меня сияющими глазами, в которых была, однако, еле уловимая мольба, но я тотчас вскочил, радостный и уверенный в себе. Помогая ей надеть пальто, я рассмеялся:
— Мы отлично поработали. И вполне заслужили маленькое развлечение.