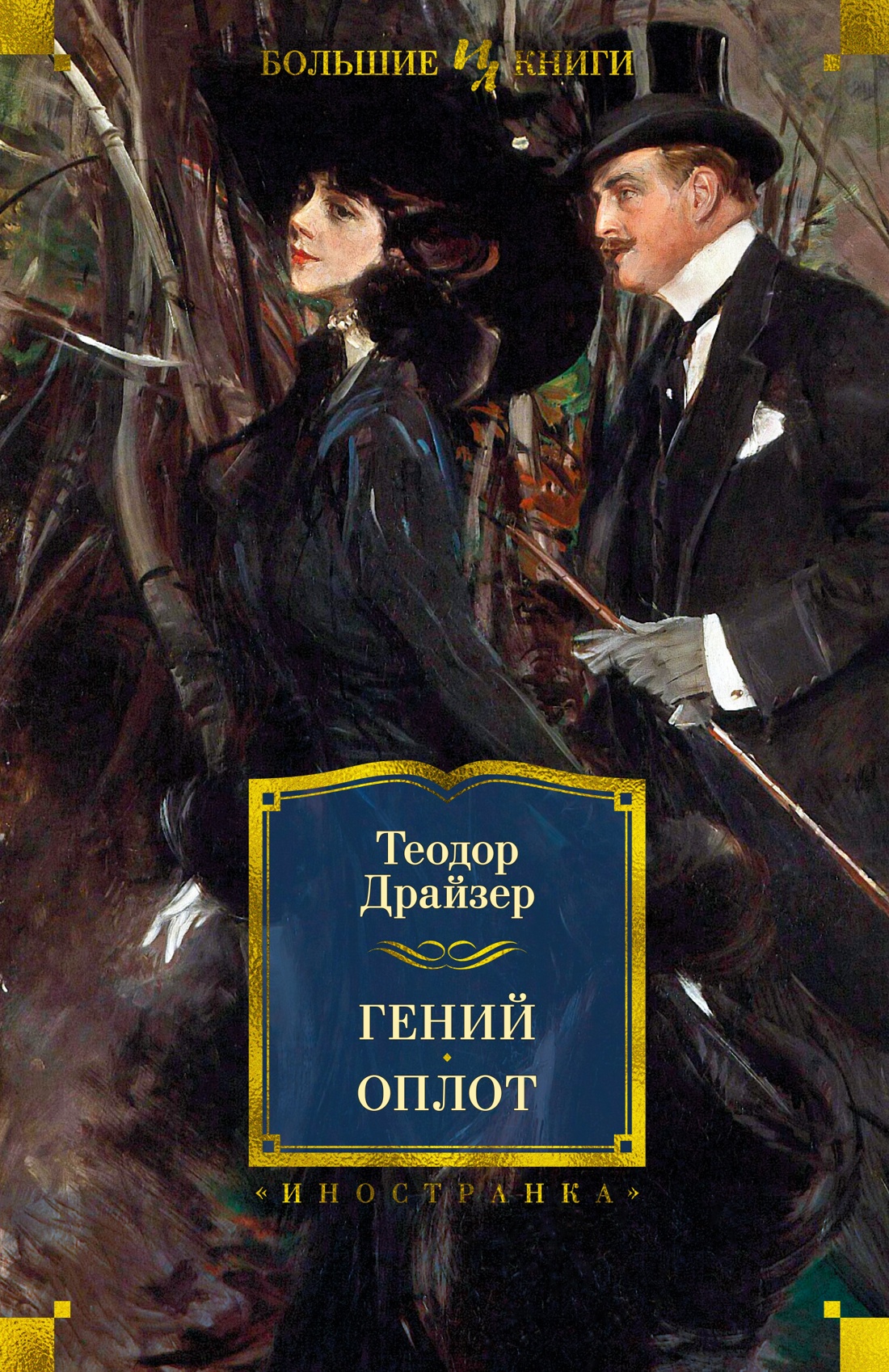лица понял, что она колеблется.
— Вы согласны, правда, согласны? — спросил он. Она молча кивнула. — Вот и чудесно! Давайте завтра в два часа и начнем.
Он достал визитную карточку, приписал на ней адрес мастерской и подал девушке.
— Это в двух шагах отсюда, — сказал он, поднимаясь. — Так не забудьте! Завтра в два часа!
И, помахав на прощанье рукой, он вернулся к своему столику.
И повторился старый, как мир, сюжет о художнике и его модели. В художнике говорило то же, что и всегда: извечное преклонение перед красотой и совершенством форм, перед жизнеутверждающей сущностью женщины. Кейн уже написал для своей серии пять или шесть портретов американцев, показавшихся ему типичными; но здесь он почувствовал возможность создать произведение, которое должно явиться венцом всей работы. Кроме того, его с первого взгляда потянуло к Этте; и девушку, хотя она сама этого не сознавала, тоже влекло к нему.
Когда Этта в два часа явилась в мастерскую, Кейн уже ждал ее. Он был одет в длинную свободную блузу, перепачканную краской, и довольно поношенные брюки; на ногах у него были коричневые кожаные сандалии. Непокорная прядь спадала на лоб над правым глазом, и Этте он в небрежном рабочем костюме показался еще привлекательнее, чем накануне. Он сердечно поздоровался с ней и поблагодарил за то, что она пришла. И она вдруг почувствовала себя дома в этой большой комнате с голыми стенами, почти пустой, если не считать подрамников, сваленных в кучу в одном углу. Торнбро, Чэддс-Форд, вся безмятежная ясность прежних дней навсегда канули в прошлое; новый мир раскрылся перед ней, и она уже стала частицей этого нового мира.
— Снимите, пожалуйста, шляпу, и начнем работать, — деловым тоном сказал Кейн и повел ее к большому старинному креслу, установленному на возвышении. Этта села, немного смущаясь, и спросила, не повернуться ли ей лицом к окну.
— Да, пожалуй, — сказал Кейн. — А вообще примите удобную, непринужденную позу. Мне нужно, чтобы ваша голова была хорошо освещена, а свет лучше всего падает именно здесь. Смотрите для развлечения в окно — на воробьев, прыгающих по мостовой, или на хозяек в доме напротив. Вон одна как раз собирается вытрясти пыльную тряпку на головы прохожих.
Этта рассмеялась, и Кейн взялся за кисть. Работая, он расспрашивал ее о занятиях в университете, о том, что привело ее сюда, в Гринвич-вилледж. Так прошло около часу. Наконец Кейн, видимо довольный сделанным, перевел дух и объявил, что на сегодня хватит.
— Я вам больше не нужна? — спросила Этта вставая.
Он молча посмотрел на нее, и она в ответ смущенно улыбнулась. Не отводя взгляда, он подошел и, помогая ей сойти с возвышения, сказал почти шепотом:
— Красавица моя! Вы мне всегда будете нужны. — И тут же продолжал уже совсем другим тоном: — Видите ли, обычно я сперва делаю два-три наброска с модели, чтобы уяснить себе детали будущего портрета. Так что если вы не передумали позировать мне, наша работа только начинается. Разумеется, я буду платить вам гонорар, как всякой натурщице. Согласны? Тогда позвольте, я запишу ваш адрес и номер телефона.
Он сделал паузу; его глубокие серые глаза смотрели на нее не отрываясь, в складке крупных, ласковых губ был горячий призыв.
— Так, может быть, завтра в это же время? Вас устраивает?
И Этта поняла, что никакая сила в мире не помешает ей завтра прийти.
Так она вступила на новый путь, на котором искусство переплеталось с жизнью сердца.
ГЛАВА XLVIII
Целых полтора месяца Этта почти каждый день приходила в мастерскую Уилларда Кейна, и отношения, складывавшиеся между ними, занимали все больше места в ее и его жизни. Однако ни эти первые проблески чувства, ни богатство и разнообразие новых впечатлений не могли заставить Этту окончательно забыть родную семью. Она очень тосковала по матери и в то же время боялась, что если она приедет домой, ей не избежать бесконечных споров с отцом, от которых у всех только останется неприятный осадок в душе. Солон ни в чем не изменил своих взглядов относительно того, как должны и как не должны поступать его дети; он по-прежнему пытался склонить Этту к возвращению в Торнбро, а она упорно не соглашалась, отказываясь даже приехать на два-три дня повидаться.
Не раз Солон высказывал желание навестить Этту в Нью-Йорке, но Бенишия отговаривала его, опасаясь, как бы его посещение не отдалило девушку еще больше от семьи. В письмах, которые Этта довольно часто писала матери, уверяя, что здорова и занятия идут хорошо, постоянно говорилось о том, как ей не хочется, чтобы вновь повторялись ненужные и бесполезные сцены с отцом. В конце концов решено было, что в Нью-Йорк поедет Бенишия, и в один прекрасный день она появилась на Хорэйшо-стрит в простой серой тальме и квакерском чепце, из-под которого сияли лаской и надеждой ее лучистые глаза. У Этты при виде матери сердце сжалось от волнения; ей вдруг показалось непонятным, как она могла причинить малейшее страдание этой нежной, любящей душе. Мать и дочь обнялись и с минуту ни та, ни другая не могли произнести ни слова. Бенишия опомнилась первая.
— Родная моя! — вымолвила она тихо. — Наконец-то я тебя вижу, могу тебя обнять, поцеловать! Если б ты только знала, как я по тебе соскучилась! Ну, расскажи же мне, как ты живешь, все, все расскажи!
— Милая мамочка, а я как рада, что могу поговорить с тобой, — сказала Этта, целуя ее. — Все тебе расскажу, не утаю ничего!
Она усадила мать в лучшее кресло, а сама села на пол у ее ног и положила ей голову на колени.