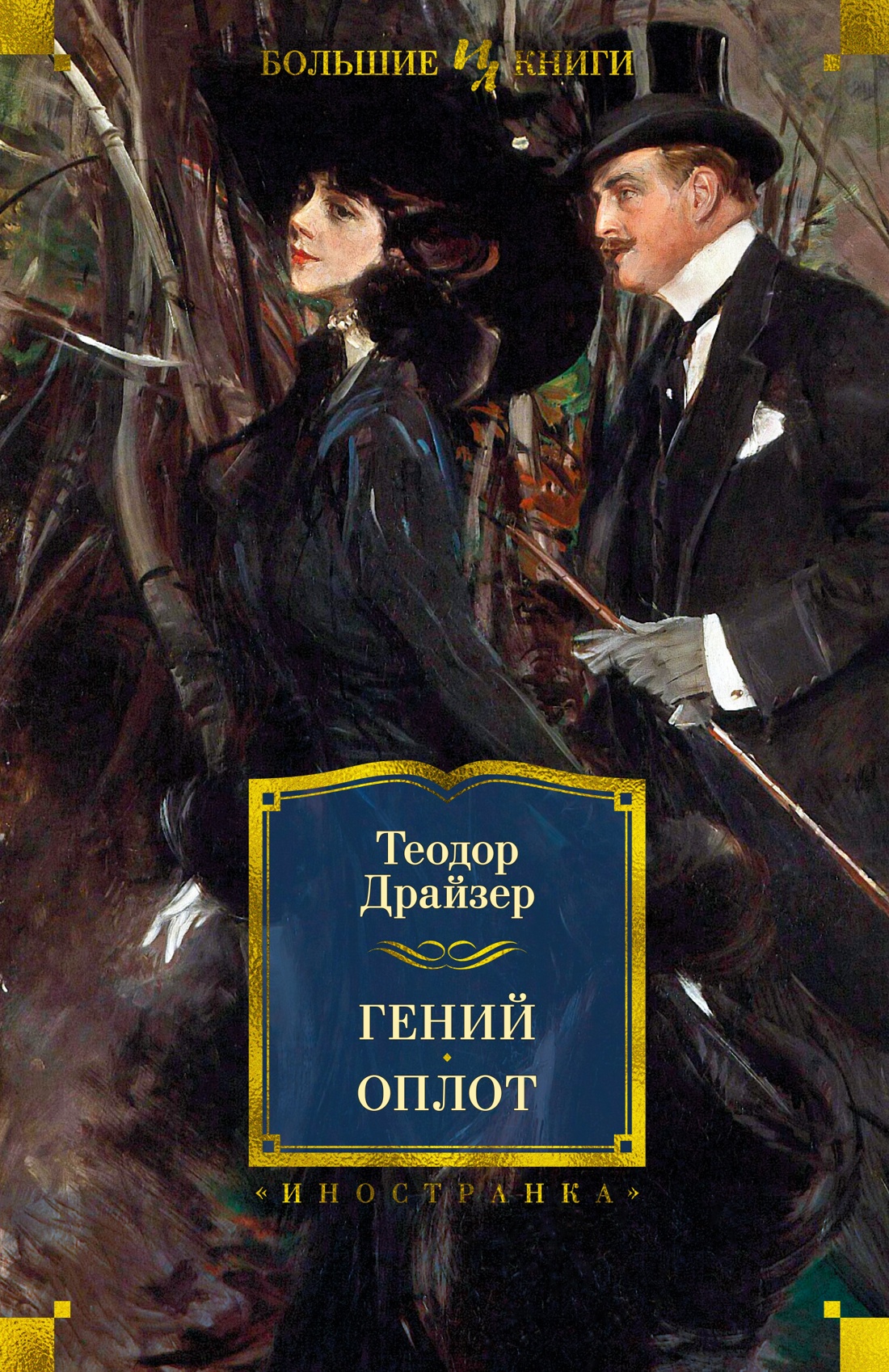кругозоре, но искренне верил и любил. А в злобных упреках Орвила лишь сказалась мелкая душонка, не знающая иных стремлений, кроме стяжательства и погони за житейским благополучием, и Этта с радостью думала о том, что больше не принадлежит к его миру. Она не хотела причинять огорчения родным, но не могла допустить, чтобы их обывательские, узкоморалистские предрассудки стесняли ее свободу.
Орвил, получивший от нее достаточно резкий отпор, никогда не узнает о том, как глубоко была она уязвлена на самом деле, а она никогда не забудет этого тупого филистерского выражения на его лице. Но за время, проведенное вдали от дома, Этта не только лучше узнала жизнь и приобрела некоторый опыт, она стала более смелой и независимой в своих взглядах. Что ей в конце концов презрение и осуждение мира богачей и мещан — мира, где брат может возненавидеть сестру, недавнюю подругу своих детских лет? Она радовалась при мысли о том, что ушла из этого мира — навлекла на себя его презрение, — ибо в нем все подчинено условным житейским правилам, которые душат стремление личности развиваться и совершенствоваться. Дружба с Волидой и общение с такой богатой артистической натурой, как Кейн, помогли ей окончательно сбросить гнет этого мира.
Таким образом, все способствовало тому, что Этта умом и сердцем сильней и сильней привязывалась к Кейну. В отличие от ее отца и брата он так хорошо понимал смысл и красоту жизни. Он побуждал ее стремиться к духовному росту, учил ее находить наслаждение в мысли и понимать радости творчества. Он говорил с ней о книгах и музыке, водил ее в картинные галереи и так умно и хорошо объяснял все, что ей было непонятно. И в то же время он приобщал ее к таинствам любви, проявляя такое умение чувствовать и выражать свои чувства, которое как нельзя лучше отвечало самым сокровенным потребностям ее существа.
Волида, несмотря на свои передовые идеи, была поражена и даже несколько разочарована, обнаружив в Этте свойственную всем обыкновенным смертным ее пола потребность любви и физической близости с любимым человеком. Впрочем, тут скорей всего проявилась безотчетная зависть или ревность, шевельнувшаяся в Волиде, потому что ей самой ни разу не случалось затронуть сердце мужчины, хотя бы и не такого привлекательного, как Кейн. Она много раз бывала вместе с Эттой в мастерской художника и восхищалась его умом и высоким мастерством его произведений. И она не теряла надежды, что когда-нибудь ей посчастливится внушить нежные чувства человеку, столь же красивому и внутренне утонченному. А пока дружба с Эттой заменяла ей более сильные привязанности. Она и в самом деле была беззаветно предана подруге, сознавая, что значительно уступает ей в богатстве мыслей и чувств. Услышав о встрече Этты с Орвилом, она тут же посоветовала ей выбросить из головы эту тяжелую и неприятную сцену. Ведь у нее есть свои деньги, правда? Она не должна спрашивать у старшего брата разрешения жить так, как ей хочется. Он и сам уже, наверно, понял, что не имеет над нею никакой власти.
В этом Волида не ошиблась. Орвил действительно уехал из Нью-Йорка с чувством полного поражения. Больше всего его мучила мысль о скандале, боязнь, как бы слух о неподобающем образе жизни, который ведет его сестра, не достиг ушей жены и жениной родни. Он решил ни отцу, ни матери и никому в семье не говорить о своей поездке. Лучше молчать и ждать; надо посмотреть, как все сложится дальше. Быть может, Этта еще одумается и изменит свое поведение. Все равно ему скоро придется побывать в Торнбро — он аккуратно раз в месяц ездил навещать родных, — и тогда уж он на месте оглядится и надумает, как ему быть.
Но когда на следующей неделе он приехал в родной дом, там все были увлечены подготовкой к свадьбе Доротеи, которая должна была состояться в октябре. Минувшим летом она стала невестой Сатро Корта, того самого молодого человека, с которым она танцевала в памятный вечер своего первого приезда к тетушке Роде; отец его был крупным подрядчиком по прокладке трамвайных линий, и Доротея не жалела изобретательности ради того, чтобы свадьба явилась событием в жизни местного общества. Орвил застал ее за изучением «Светского справочника», откуда она выписывала имена и адреса лиц, достойных приглашения на торжество. Она очень обрадовалась приезду брата, считая, что в этом вопросе он может быть неоценимым советчиком.
Они были одни в кабинете Солона. Орвил стоял у окна и смотрел на лужайку перед домом, а Доротея сидела за отцовским столом. Она читала вслух имена, а он делал свои замечания, большею частью одобрительного свойства.
— Рэнс Кингсбери с женой. — Карандаш Доротеи задержался в воздухе. — Пригласим?
— Кингсбери? — Орвил отскочил от окна и поспешно подошел к ней. — Нет, нет, ни за что!
— А почему? — удивилась Доротея. — Чем он нехорош?
— Дело вовсе не в том, хорош он или нет, — сказал Орвил. — А просто ему кое-что известно об Этте, что нам вовсе не желательно распространять, особенно сейчас.
Доротея выпрямилась в кресле.
— Что такое? Я не понимаю, Орвил, о чем ты говоришь?
Орвил нахмурился и приложил палец к губам, как бы в знак того, что это тайна.
От этого, разумеется, любопытство Доротеи только разгорелось, и, пустив в ход присущую ей настойчивость, она в несколько минут вытянула из Орвила всю историю. То, что она услышала, потрясло ее и в то же время испугало: перед ее мысленным взором сверкнуло страшное слово «скандал». Подумать только, что ей и ее семье угрожает такая опасность — и именно сейчас, перед ее свадьбой! Она решила ничего не говорить родителям, но случилось так, что на следующий день, когда они с матерью обсуждали какие-то хозяйственные приготовления, Бенишия вдруг сказала:
— Доротея, тебе, по-моему, следует написать Этте сердечное, теплое письмо и попросить ее приехать на свадьбу. Я не сомневаюсь, что она и так приедет, но пусть видит, что ты этого хочешь.
— Но, мама... — начала