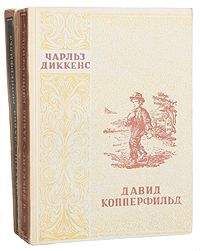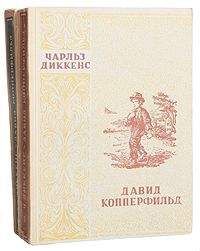Он показал мне конверт — на нем был штемпель одного из городов в верховьях Рейна. Оказалось, что старик нашел в Ярмуте иностранных купцов, знакомых с берегами Рейна, и они набросали ему несложную карту тех мест, в которой он мог очень легко разобраться. Он положил эту карту между нами на стол и, склонив голову на одну руку, другой стал возить по тем местам на карте, по которым ему надо было итти. Я спросил его, как чувствует себя Хэм. Мистер Пиготти покачал головой.
— Он работает так мужественно, как только в силах работать человек, и заслужил себе лучшее имя, которое только можно заслужить на свете. Каждый рад ему помочь, так как, понимаете, он сам готов помочь всякому. Никто никогда не слышал, чтобы он жаловался, но сестра моя считает, между нами будь сказано, что «это» поразило его в самое сердце.
— Бедняга! Легко поверю этому, — вырвалось у меня.
— Знаете, мистер Дэви, — зашептал с печальным видом старик, — он теперь и в грош свою жизнь не ставит. Когда в бурную погоду требуется человек на опасное дело, он всегда тут как тут, всегда впереди всех товарищей. И при этом кроток, как дитя. Нет такого малыша в Ярмуте, который не знал бы его.
Мистер Пиготти стал задумчиво собирать письма, погладил их, опять завернул в бумагу и с нежностью положил обратно в боковой карман. Лицо, выглядывавшее из-за двери, исчезло. И хотя снежники продолжали врываться в дверь, но там, очевидно, уже никого не было.
— Ну, мистер Дэви, — проговорил старый рыбак, поглядывая на свою котомку, — раз я повидался с вами сегодня вечером — и это доставило мне большую радость, то завтра с утрa я могу пуститься в путь. Вы видели, что у меня здесь, — и он засунул руку за пазуху, где был маленький пакет, — так вот, меня больше всего мучает мысль что со мной может случиться что-нибудь раньше, чем я верну эти самые деньги. Если бы мне пришлось умереть, а деньги были бы потеряны, украдены или вообще куда-нибудь девались и «он» мог бы думать, что я взял их себе, то мне кажется, я не улежал бы спокойно и в могиле. Право, вернулся бы с того света.
Затем он встал, и я тоже. Прежде чем выйти, мы крепко пожали друг другу рука.
— Если бы мне пришлось итти целых десять тысяч миль, — заговорил он, — то и тогда я шел бы, пока не свалился бы мертвым, чтобы швырнуть эти деньги к его ногам! Только бы мне это сделать да найти свою Эмми и я буду совсем доволен. Если же мне не удастся ее найти, то, быть может, она от кого-нибудь услышит, что одна смерть заставила любящего дядю прекратить розыски ее. И вот, зная мою Эмми так, как я знаю, я уверен, что это, наконец, заставит мою девочку вернуться домой.
Мы вышли на улицу. Была очень холодная ночь. Я увидел убегающую от нас одинокую женскую фигуру. Под каким-то предлогом я задержал старика, пока фигура не исчезла. Мистер Пиготти сказал мне, что знает на Дуврской дороге постоялый двор, где сможет переночевать в чистой скромной комнате. Я пошел проводить его через Вестминстерский мост и расстался с ним на Суррейской набережной. Когда одинокий старик двинулся в путь-дорогу, мне почудилось, что все в природе благоговейно затихло…
Я вернулся к гостинице и стал усердно искать глазами ту, чье лицо вызвало во мне столько воспоминаний, но ее нигде не было. Снег уже занес наши следы, да и мои начинал заносить.
Наконец-то получился ответ от старых тетушек. Они слали привет мистеру Копперфильду и уведомляли его, что обсудили его письмо самым серьезным образом, приняв во внимание «благо обеих сторон». Признаться, это выражение немало встревожило меня, ибо я помнил, что оно было уже ими однажды употреблено при той семейной ссоре, о которой я раньше упоминал. Тетушки писали дальше о том, что они воздерживаются объясняться «при содействии переписки» по поводу вопроса, поднятого мистером Копперфильдом в его письме, но если мистер Копперфильд почтит их в назначенный ему день своим посещением (и, быть может, найдет удобным это сделать в сопровождении друга, пользующегося его доверием), то они будут счастливы переговорить с ним о данном деле.
На это письмо мистер Копперфильд не замедлил ответить, что в назначенный день будет иметь честь засвидетельствовать обеим дамам свое глубочайшее почтение, притом, пользуясь их любезным разрешением, явится в сопровождении своего друга мистера Томаса Трэдльса, члена адвокатской коллегии.
Отправив это послание, мистер Копперфильд пришел в страшно нервное состояние, в коем и пребывал вплоть до знаменательного дня.
Мое нервное состояние еще усиливалось тем, что я лишился бесценных услуг мисс Мильс. Ее папаша, всегда делающий мне все назло, — или мне это только казалось, — и теперь вдруг взял да и принял важный пост в Индии, куда и собирался уехать со своей дочерью.
В данный момент она была в провинции, куда отправилась проститься со своими родственниками и друзьями.
Меня очень мучил вопрос, как мне одеться в этот столь важный для меня день. С одной стороны, мне хотелось быть как можно интереснее, а с другой стороны я боялся, принарядившись, показаться тетушкам недостаточно серьезным. Наконец я решил придерживаться золотой середины, и бабушка, когда я привел в исполнение свой план, одобрила меня. А мистер Дик, в то время как мы с Трэдльсом спускались по лестнице, бросил нам вслед на счастье свой башмак.
Какой ни был чудесный человек Трэдльс, как горячо я ни любил его, а идя с ним в Путней по такому щекотливому делу, я не мог не пожалеть о его манере зачесывать волосы вверх. Это придавало ему почему-то изумленный вид, сказал бы даже — сообщало ему какое-то сходство с помелом, и мои страхи нашептывали мне, что это может оказаться пагубным для нашего дела. Я даже осмелился спросить его, не смог ли бы он немного пригладить себе волосы.
— Дорогой мой Копперфильд, — ответил Трэдльс, приподняв шляпу и усердно разглаживая свои волосы, — рад бы душой, да с ними ничего не поделаешь.
— Неужели же их никак нельзя пригладить? — удивился я.
— Никак, — уверенно ответил Трэдльс. — Взвали я на них большую тяжесть и тащи ее таким образом до самого Путнея, в момент, когда я снял бы эту тяжесть, волосы у меня опять стали бы дыбом. Вы, Копперфильд, даже не имеете представления, до какой степени они упрямы! В этом отношении я настоящий свирепый дикобраз.
Я, признаться, немного был огорчен, но в то же время и очарован добродушием моего друга. Я тут же сказал, какого я высокого мнения о его доброте, и прибавил, что, наверное, все упрямство у него сосредоточилось в волосах, ибо в характере даже следа его не осталось.
— Ах, это вечная история с моими злосчастными волосами! — смеясь, сказал Трэдльс. — Их не могла видеть и жена моего дяди. По ее словам, они раздражали ее. Так же служили они мне помехой, когда я только что влюбился в Софи…
— Что же, они ей не нравились?
— Нет, сама она ничего не имела против них, но вот старшая ее сестра, — знаете, та красавица, — ужасно потешалась над моими бедными волосами. Впрочем, и все сестры подсмеиваются над ними.
— Нечего сказать, приятно! — воскликнул я.
— Да мы все порой смеемся над ними, — с очаровательной наивностью прибавил Трэдльс. — Сестры уверяют, что Софи прячет локон моих волос в свой письменный столик и, чтобы он не топорщился, принуждена держать его в альбоме с застежками. Потеха, да и только!
— Кстати, дорогой мой Трэдльс, — начал я, — ваша опытность может мне пригодиться. Скажите, когда вы стали женихом молодой леди, о которой только что упоминали, вы делали формальное предложение ее родителям? Было ли у вас, например, что-либо подобное тому, что сейчас нам предстоит с вами? — прибавил я нервничая.
— Видите ли, Копперфильд, — сказал Трэдльс, и его лицо стало более серьезным, — это было для меня далеко не легкое дело. Софи до того необходима своей семье, что никто из них не может даже себе представить, как это она вдруг выйдет замуж. Они между, собой решили, что она так никогда и не выйдет, и уже стали звать ее старой девой. И вот, когда, со всевозможными предосторожностями, я заговорил с миссис Крюлер…
— Это ее мама? — перебил я его.
— Да, мама, — ответил Трэдльс, — жена его преподобия Горация Крюлера… И повторяю, когда, со всяческими предосторожностями, я заикнулся перед миссис Крюлер об этом, мои слова так поразили ее, что она вскрикнула и лишилась чувств. Потом в течение целых месяцев я не мог коснуться этого вопроса.
— Но в конце концов вы же снова подняли его? — сказал я.
— Ну да, но заговорил об этом его преподобие отец Гораций. Он прекраснейший человек, примерный во всех отношениях. Это он убедил жену, что она должна как христианка примириться с такой жертвой (особенно, когда все это еще так неопределенно) и не питать ко мне каких-либо враждебных чувств. А я в это время, Копперфильд, даю вам честное слово, чувствовал себя какой-то хищной птицей по отношению ко всей семье Крюлер.