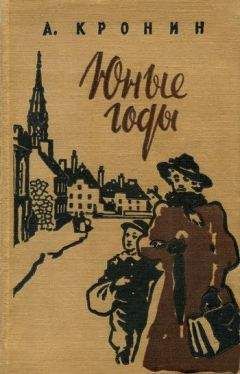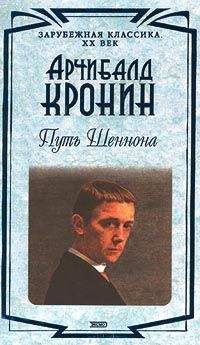Ознакомительная версия.
Но сейчас я думал не об этом, а только о своих поразительных способностях и был в полном упоении от слов, которые сказал мне мистер Рейд, прежде чем отпустить на короткие пасхальные каникулы. Джейсон, или «Язон», Рейд велел мне задержаться и сделал знак подойти к кафедре. Мой классный руководитель был человек молодой — ему было всего тридцать два года; от его коренастой фигуры веяло еле сдерживаемой энергией, верхнюю губу пересекал белый шрам, по обе стороны которого симметрично шли крошечные белые точечки — следы швов. Этот шрам, — очевидно, след операции по удалению «заячьей губы», — словно бы пригибал его нос книзу, отчего он казался приплюснутым, точно без хрящей, а ноздри — невероятно широкими; должно быть, поэтому и большие голубые глаза были выпучены — чуть не вылезали из орбит. Волосы у Рейда были мягкие светлые, а кожа хоть и белая, но нечистая, потливая; он всегда был гладко выбрит, так как не хотел скрывать под усами изуродованную верхнюю губу, как бы поощряя и в то же время презирая жестокое любопытство обывателя. Недостаток этот становился еще более заметен, стоило ему только заговорить: звуки получались такие, как если бы он плашмя прикладывал язык к нёбу, и твердое «с» становилось похоже на «з»; от этого, собственно, и пошло его прозвище; родилось оно в тот день, когда мы начали изучать историю аргонавтов по третьей оде Пиндара и он взволнованно рассказывал нам о «Язоне».
— Шеннон! — Он барабанил пальцами, а я с обожанием смотрел на него. — Нельзя сказать, чтобы ты был уж совсем олух. — Так он обычно отзывался о своих учениках. — Я хочу сделать тебе одно предложение…
Когда я добрался до «Ломонд Вью», у меня все еще голова шла кругом от того нежданно-негаданного, что он мне сказал.
Мне хотелось побыть одному, сохранить от всех свою тайну, но дедушка поджидал меня наверху; он сидел возле открытого окна перед доской с шашками, на которой уже были расставлены фигуры.
— Что это ты так задержался? — нетерпеливо спросил он.
— Да ничего. — Я стал невероятно скрытным. К тому же дедушка уже не был для меня героем гомеровских времен, а то, что мне сказал мистер Рейд, было слишком драгоценной тайной, чтобы «выболтать» ему.
Вообще говоря, дедушка изменился за это время куда меньше, чем я; он был по-прежнему крепким и энергичным, хотя в бороде его поубавилось меди, а на пиджаке появилось еще несколько пятен, посаженных по небрежности. Он еще не вступил в ту полосу своей жизни, о которой я буду с такою болью говорить потом, когда его выходки стали для меня просто проклятьем. Недавно его закадычный друг Питер Дикки, страшась участи всеми брошенного старика, поселился в приюте для престарелых в Гленвуди. Это отрезвило дедушку; его всегда пугала старость, а уж слово «смерть» он и вовсе воспринимал как личное оскорбление. Сейчас же он выглядел еще на редкость бодро; он наслаждался ежегодной передышкой, которая наступала, когда бабушка отправлялась в Килмарнок. Словом, он переживал ту пору, которая называется «бабьим летом». Однако в данную минуту настроение у него было плохое: ему показалось, что я пытаюсь «увильнуть» от его любимой игры.
— Что это с тобой? Разомлел, точно кот на горячей печке!
Я махнул рукой и сел напротив него, а он, нахмурившись, сосредоточенно склонился над доской, мучительно обдумывая дальнейший ход и подготовляя мне западню, которую я без труда мог предвидеть; вот он с самым невинным видом передвинул пешку и, чтобы прикрыть эту явную хитрость, принялся вытряхивать табак из трубки, потом осмотрел мундштук и замурлыкал что-то себе под нос.
Я же, естественно, вовсе не думал об игре: все мои мысли сосредоточились на том чудесном предложении, которое сделал мне Джейсон и которое вселяло в меня новые надежды на будущее. Накануне окончания школы я, подобно большинству мальчиков, немало поломал голову над тем, что делать дальше. Я был честолюбив и хотя знал, кем хочу быть, однако обстоятельства моей жизни складывались так, что, не препятствуя прямо моим стремлениям, они все же не давали особых надежд на то, что мне это удастся.
В классе я уже давно стал первым учеником и за это время прошел через руки многих учителей, которые, правда весьма неопределенно, предсказывали мне большие успехи. Был такой, например, мистер Ирвин, высокий, тощий, болезненный, у него всегда отчаянно болела голова от насморка; он уверил меня, что мне удаются сочинения на английском языке и в знак высокого мнения о них читал классу своим гнусавым голосом мои цветистые, высокопарные опусы на такие темы, как «Битва на море» или «Весенний день». Затем был мистер Колдуэлл, которого мальчики прозвали «Култышкой» из-за деревянной подпорки, поддерживавшей его высохшую ногу. Это был кроткий пожилой человек с плавными жестами и маленькой седой эспаньолкой; одевался он всегда в серое, точно священник, и жил в мире классиков; как-то раз он отвел меня в сторону и сказал, что из меня может выйти латинист, если я буду усердно заниматься. И другие педагоги, тоже из самых лучших побуждений, давали мне советы, притом самые противоречивые.
Но лишь попав в руки Джейсона, я почувствовал к себе настоящий теплый интерес. Он первый обратил внимание на то, что я не на шутку увлечен естественными науками. Как хорошо я помню, с чего все началось: однажды летним днем в открытое окно классной комнаты влетели две бабочки — две обычные синие бабочки; мы все бросили заниматься и стали наблюдать за ними.
— А почему их две? — лениво спросил Джейсон Рейд, обращаясь в такой же мере к себе, как и к классу.
Молчание. Затем раздался мой скромный голос:
— Потому что они женихаются, сэр.
Джейсон устремил на меня иронический взгляд своих больших навыкате глаз.
— Ты что же, олух этакий, считаешь, что у бабочек есть любовь?
— Конечно, сэр. Они за милю чуют своего суженого по особому запаху. Его выделяют подкожные железы, и похож он на запах вербены.
— Так, пошли дальше. — Джейсон говорил раздумчиво: он еще не был уверен в моих познаниях. — А скажите на милость, как же они чуют этот дивный аромат?
— На кончиках усиков у них имеются специальные узелки. — Я улыбнулся и, увлеченный своим любимым предметом, добавил: — Это еще что, сэр. Вот Красный адмирал — у того вкусовые ощущения в лапках.
Класс грохнул от хохота. Но Джейсон мигом успокоил учеников.
— Тише, дурни. Этот олух кое-что знает, чего о многих из вас не скажешь. Продолжай, Шеннон. Ну а эти наши синенькие друзья, которые тут летают, могут они видеть друг друга или им непременно нужно почувствовать запах вербены?
— Как вам сказать, сэр, — краснея, начал я, — глаз бабочки устроен весьма любопытно. Он состоит примерно из трех тысяч глазков, и каждый имеет свою роговую оболочку, свой хрусталик и свою сетчатку. И хотя бабочки прекрасно различают цвета, они чрезвычайно близоруки: видят не дальше четырех футов…
Я запнулся, и Рейд не стал требовать от меня дальнейших пояснений, но по окончании урока, когда мы друг за дружкой выходили из класса, он еле заметно многозначительно улыбнулся мне — это была первая улыбка, которой он меня одарил, — и чуть слышно пробормотал:
— И как ни странно… никакого самодовольства.
С тех пор, поощряя мои успехи в биологии, он стал давать мне задания сверх программы по физике. А через несколько месяцев поручил мне лабораторную работу по исследованию взаимопроникновения коллоидных растворов. Ничего удивительного, что я был предан ему собачьей преданностью одинокого мальчика и буквально глотал каждое слово, которое он произносил в классе; в подражание ему я даже задумчиво хмурился и слегка заикался, разговаривая с Гэвином.
За год до описываемого мною момента отец Гэвина перевел его из Академической школы в Ларчфилдский колледж. Это было для меня тяжким ударом. Хотя колледж находился в соседнем городке Ардфиллане, о том, чтобы попасть туда, обычные мальчики и мечтать не могли: это было дорогое закрытое учебное заведение для избранных с интернатом; директор училища окончил Баллиол и был капитаном знаменитого клуба крикетистов в Лордсе! Несмотря на то, что Гэвин очень скоро стал там всеобщим любимцем, мы по-прежнему были большими друзьями. Летними вечерами я брал велосипед мистера Рейда и мчался за пятнадцать миль посмотреть, как Гэвин защищает честь школы, а он, выбравшись из толпы восхвалявших его у финиша зрителей, без всякого стеснения уходил в дальний конец чудесной спортивной площадки, где, притаившись, поджидал его я, скромный чужак; он бросался подле меня на траву как был, в спортивной куртке и белых фланелевых брюках, и, покусывая травинку, спрашивал, почти не разжимая губ:
— Ну как у нас дома?
Хотя теперь дружба наша была горячее, чем прежде, и мы не расставались с Гэвином, когда он приезжал домой, тем не менее встречи наши перемежались долгими разлуками, а поскольку какого-нибудь второсортного приятеля я заводить не хотел, то я был всецело предоставлен сам себе и в полную меру проявлял свою болезненную склонность к уединению.
Ознакомительная версия.