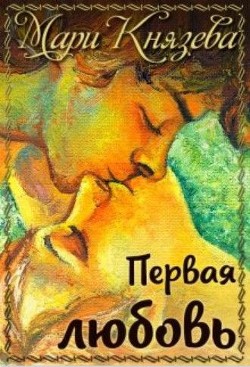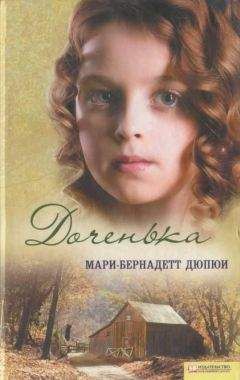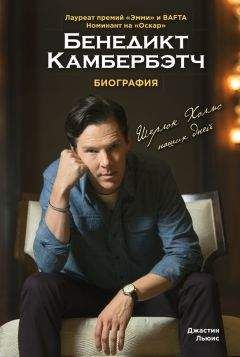И я раскололась на две половинки. Днем я рисовала себе губы и брови, изображала загадочные взгляды для камеры — надевала маску Хеди Ламарр. Ночью я снова становилась Хедвиг Кислер и терзалась тревогой за своих соотечественников — и за австрийских немцев, и за евреев, хотя до того, как я покинула родину, даже не думала о себе как о еврейке. Я начала понимать, что, убежав из Австрии и не поделившись ни с кем информацией о гитлеровских планах, я невольно подставила под удар австрийцев, и особенно евреев. Но я не знала, как помочь хоть кому-нибудь. Разве что маме.
Тошно было думать о том, что я не постаралась как следует убедить ее уехать при нашей последней встрече. Тогда, за чаем, я разозлилась на ее слова о папе и поддалась страху, что она расскажет о моих планах Фрицу. Эти эмоции оказались сильнее меня, и, когда мама отказалась покинуть Вену, я не сделала никакой попытки ее уговорить. А нужно было наступить на горло своим чувствам и рассказать ей то, что я узнала о планах Гитлера.
Тогда я слишком легко уступила, но теперь ни за что не сдамся. Я найду способ вытащить маму из Австрии.
Из последнего письма было ясно: теперь уже не придется тратить столько усилий, чтобы убедить маму оставить ее любимую Вену. Правда, впрямую она ничего не писала об ужасах, творящихся в городе: она не без оснований опасалась, что нацистские правительственные чиновники могут просматривать письма, отправляемые за границу, и тогда кары не миновать. Но ее страх перед этими событиями чувствовался в каждом уклончивом обороте фразы, в каждом слове, которое осталось ненаписанным.
Дорогая Хеди,
надеюсь, твоя новая жизнь в Голливуде по-прежнему благосклонна к тебе. Успех — это то, к чему ты всегда стремилась…
Читая эти строки, я глубоко вздохнула, но решила, что не позволю ее сомнительному комплименту меня задеть. По складу характера мама просто не умела хвалить. Например, боже упаси поздравить меня с удачно сыгранной ролью в «Алжире», вместо того чтобы рассуждать о том, как я «стремилась» к успеху в кино. Но эта привычная недоброжелательность не должна изменить мои намерения. Я стала читать дальше.
Я часто вспоминаю о нашей беседе за чаем перед твоим отъездом. Теперь я понимаю, что нужно было прислушаться к твоему совету, Хеди. Но матери часто недооценивают рассудительность своих дочерей, и я не исключение. А теперь, может быть, уже поздно.
На тот случай, если это и вправду так, Хеди, я хочу разъяснить то недоразумение, что произошло между нами в тот день за чаем. Тогда ты сказала, что я будто бы обделяла тебя лаской и любовью назло или из-за того, что питала к тебе неприязнь. Большей неправды и представить себе невозможно. Я всего лишь стремилась как-то уравновесить неумеренную лесть и потворство твоего отца. Я тревожилась о том, что может ждать в будущем такую миловидную девочку, которую и так уже все вокруг готовы носить на руках за ее красоту, если еще и оба родителя будут в один голос твердить ей, что она совершенство. Мне нелегко было придерживаться своих правил, но, вопреки твоему убеждению, я делала это из любви.
По моему лицу потекли слезы: никогда еще в маминых словах, обращенных ко мне, не слышалось ничего столь похожего на нежность или просьбу о прощении. И еще одно мне стало почти совершенно ясно из этого ее письма. Мама готова и даже более чем готова уехать из Вены. Оставалось только найти способ вывезти ее в Америку.
На следующий же день, вечером, случайный разговор подсказал мне, как это можно осуществить. На вечеринке на Голливудских холмах обе мои европейские подруги сбежали от меня, как только подвернулась возможность поговорить с режиссером, у которого они надеялись получить работу. Я осталась в компании какого-то довольно унылого и невзрачного парня, который до сих пор болтался рядом и лишь изредка вставлял реплики в разговор. Я уже готова была уйти, и даже без извинений, но тут вдруг вспомнила: он ведь говорил моей подруге, что работает адвокатом.
— Вы, кажется, упомянули, что вы юрист? — По тому, что его вообще пригласили на эту вечеринку, где собрались главным образом люди, связанные с кино, я догадывалась, что он вряд ли занимается иммиграционными делами. И все же я решила, что навести справки будет не лишним. Может быть, он хотя бы подскажет мне какого-нибудь адвоката, специализирующегося в этой области.
У него даже глаза вспыхнули, когда я перевела на него взгляд: как будто ему не верилось, что я с ним заговорила. Мне самой-то с трудом верилось. На секунду он замялся, а потом сказал:
— Д-д-да, юрист.
Я не видела смысла в пустой болтовне, а потому сразу перешла к делу:
— Вы что-нибудь понимаете в том, как можно перебраться в Америку из Европы?
— Н-немного, — проговорил он, все еще запинаясь. Это я его так нервирую, или у него вообще привычка такая? — Это не моя сфера, но в общем виде иммиграционные законы я знаю. Насколько я понимаю, вы спрашиваете о конкретном человеке?
Я кивнула.
— Откуда он… или она? — Он постепенно пришел в себя и заикался уже меньше.
— Из Австрии.
— Хм-м-м… — протянул он. — Ну, прежде всего, в Америке не существует политики приема беженцев — только иммиграционная политика. У нас действует строгая система квот, по которым ежегодно разрешение на въезд получает строго определенное количество людей из той или иной страны. Если квота уже исчерпана, заявки отклоняются — и не имеет значения, поданы они в начале или в конце года.
— А как мне узнать, принимает ли Америка людей из Австрии, или квота уже закончилась?
— Ну, думаю, Рузвельт уже ввел общую квоту для Австрии и Германии, поскольку теперь эти страны объединились…
Я чуть было не рявкнула на него: не они «объединились», а Германия насильственно присоединила к себе Австрию! Но адвокат продолжал говорить, и я должна была его дослушать.
— Как бы то ни было, — сказал он, — я наверняка смогу выяснить для вас размер квоты. Но имейте в виду: дело не сводится к вопросу, остались ли еще свободные места. Этот человек уже начал оформлять документы?
Я покачала головой: я еще не успела подумать о бюрократической стороне дела.
— В общем, процесс иммиграции в Америке достаточно запутан. Намеренно. Правительство использует сложности в процедуре подачи заявления как сдерживающий фактор.
— Зачем?
— Затем, чтобы в страну въехало поменьше эмигрантов, разумеется. — Он продолжал, даже не замечая, какую ужасную вещь только что сказал: — В общих чертах дело обстоит так. Вначале заявитель проходит регистрацию в американском консульстве и попадает в список людей, ожидающих американской визы. Пока он ждет своей очереди, ему нужно собрать длинный список необходимых документов: удостоверение личности, справку из полиции, разрешение на въезд и транзит, справку о доходах, чтобы доказать, что он в состоянии себя содержать. Хитрость с этими бумагами в том, что у них у всех ограниченный срок действия, поэтому нужно успеть их получить, дождаться своей очереди и подать до истечения этого срока. Иначе придется начинать все заново. А успеть подать эти документы вовремя настолько сложно — почти невозможно, — что их прозвали «бумажной стеной».
Я кивнула, лихорадочно обдумывая все требования, которые придется выполнить маме. Я даже не представляла, сколько времени может на это уйти. А если с ней что-то случится, пока мы будем ждать? Нет, рисковать я не могла.
— А нельзя ли как-то ускорить этот процесс?
— Скажем так — для этого нужно иметь весьма солидные знакомства. Вот если вы знаете людей, у которых имеются связи в федеральном правительстве, тогда, возможно, у вас будет шанс подвинуть кого-то вперед в списке ожидания или избавиться, частично или полностью, от необходимости собирать документы.
Теперь я знала, что делать. Не уточнив даже имени этого адвоката — и, хуже того, даже не поблагодарив за совет, — я растворилась в толпе. Я спешила к единственному человеку из всех, кого я знала, располагающему именно теми связями, которые были мне так нужны, — к мистеру Майеру.