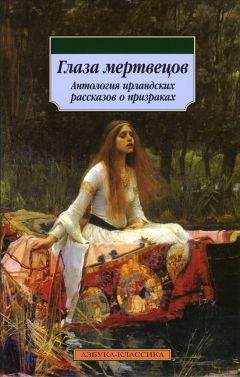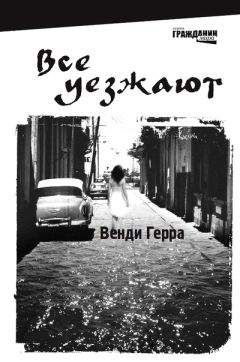И Розочка вновь пристраивала свои упрямые пальцы на клавиатуре, широко открытыми напряженными глазами глотала неподатливую строчку нот, — разместившихся разнотыком на пяти линиях, как галки на телеграфных проводах, -три раза звонила на дискантах, и «курьерский поезд» шумно и торопливо выкатывался, унося за собой напряженную, боявшуюся упасть мысль неуверенной в себе Нашатыревой дочки.
— Хорошо… Поехали… — одобрительно бросала Елена Ивановна.
И когда — по пьеске — поезд снова замедлял ход, и с трудом сдерживаемые теперь пальцы Розочки давали опять мелкий и отрывистый колокольчик «прибытия», — радовалась дочка Абрама Нашатыря своей сегодняшней удаче и целовала — благодарная — бледную щеку Елены Ивановны.
Ах, может быть, так же быстро и весело уйдет когда-нибудь и настоящий поезд, умчит и ее, Розочку, в далекие края неизведанной самостоятельной жизни!…
Дочь Абрама Нашатыря никогда не знала ее желанного грядущего лица: оно было расплывчато и смутно в мечтах девушки, потому что мыслям не дано было упереться в край цели, как ненаправляемым, брошенным по течению веслам — в упругие, налегающие толчки речного потока.
Все могло быть новым и привлекательно таинственным для восемнадцатилетней Розочки, все, даже уходящий далеко от Булынчуга, в другие города, поезд — «настоящий поезд»: всего один раз в жизни — еще в раннем детстве — ездила она в товарном вагоне, когда Абрам Нашатырь убегал с семьей от памятного в Булынчуге еврейского погрома.
Дочь Абрама Нашатыря была простодушна и добра, и она говорила Елене Ивановне:
— Если бы я была богатая-богатая, мы с вами уехали б и где-нибудь жили б!…
Она любила Елену Ивановну и печалилась искренно о ее судьбе.
Эта девушка попала в кафе Нашатыря тогда же, когда он, по предложению Марфы Васильевны, решил нанять на вечерние часы музыкантов и купил продававшееся на торгах пианино.
И помнят булынчужане, что в один и тот же вечер появились в «Марфе» серый с красноватыми перышками попугай Карл и трио музыкантов, среди которых была и высокая, с остренькими торчащими ключицами и бескровным, бледным, как ком извести, лицом, девушка — Елена Ивановна.
Когда решен был вопрос о приглашении в «Марфу» музыкантов, Абрам Нашатырь вдруг призадумался, словно что-то вспоминая, ухватился за седенькое жесткое долотце своей бородки и, не отнимая от нее руки, глухо сказал Марфе Васильевне:
— Скрипку и виолончелю ты нанимай сама, а для пианино у меня на примете хорошая музыкантша: надо мне помочь знакомому человеку…
— Ты ее хорошо знаешь?
— Я ее хорошо знаю… — ответил Абрам Нашатырь.
И одним весенним утром он подошел к низенькому и сутулому, обложенному неровно глиной, как нищенка отрепьями, дому с заросшим травою крыльцом, приоткрыл дверь и спросил у выглянувшей из кухни женщины:
— Барышня Терешкевич дома будет?
Женщина стирала белье, на ее заголенных по локоть мясистых красных руках текли прозрачные пузыри мыльной пены, — она мокрой рукой убрала со лба нависшие растрепанные волосы, неприязненно взглянула на вошедшего и ничего не ответила.
— Барышня Терешкевич дома будет? — спросил опять Нашатырь у продолжавшей стирать с ожесточением женщины. — Мне ее нужно.
— По надобности пошла ваша «барышня»!… — вдруг огрызнулась та. — Ждите, как нужно. «Барышня, барышня!…», — так же неожиданно разразилась она, перекривляя Абрама Нашатыря. — Сдыхаться б когда от вашей барышни: безработная, голодная, ни на одно женское дело не годящая да еще с болезнью…
Женщина, как будто вспомнив о чем-то, расхохоталась:
— Как на биржу безработных идет, — так с животом своим справиться не может! «Я, — говорит, — волнуюсь очень за неспособность свою к теперешнему времени, и вдруг пошлют не по интеллигентному занятию… А как волнуюсь, — говорит, — сразу животом очень болею…» Вы что, по делам к ней или перекупщик, может? — прервала она себя и перестала стирать, взглянув опять с любопытством на ожидающего Нашатыря. — Если перекупщик, то напрасно очень: барышне вашей одни панталоны продать только можно, — остальное сама у нее за квартиру взяла… Еще должок за ней будет.
— Я по делам, — сказал Абрам Нашатырь.
— Ну, как узнает ваша барышня, — так опять и заволнуется… Ха-ха-ха!
— На здоровье! — сказал Абрам Нашатырь. — Я не биржа, но я ей дам-таки работу.
Он хотел присесть и закурить, но в дверях со двора показалась девушка, — и он пошел ей навстречу.
— Мне можно с вами в вашу комнату? — приподнял он картуз. — На биржу можете не ходить, потому что я выгодней вашей биржи…
Девушка удивленно и нерешительно посмотрела на незнакомого человека и повела его в свою, комнату.
Через полчаса Абрам Нашатырь ушел, а девушка вынесла трехрублевый долг своей хозяйке — удивленной и заинтересованной — и заявила, что через два дня переезжает на другую квартиру: в гостиницу «Якорь», что на Херсонской улице.
И помнят булынчужане, что в один и тот же вечер появились в «Марфе» серый с красноватыми перышками попугай Карл, рыжий виолончелист Исаак Моисеевич, скрипач Турба -со смешным, срывающимся визгливо голосом, как у гермафродита, и высоко приподнятым вплотную к уху левым плечом, — и тоненькая некрасивая девушка с торчащими, как отставшая от ящика планка, остренькими ключицами.
И попугай и музыканты почти в равной мере привлекали веселящихся и отдыхающих булынчужан в кафе Абрама Нашатыря.
Марфа Васильевна могла гордиться: никогда еще и нигде попугаи не украшали собой общественных и увеселительных мест в Булынчуге… Говорящие попугаи!…
У буфетчика на вокзале, правда, скучно чирикали пережившие революцию две канарейки; старые булынчугские холостяки рассказывали Абраму Нашатырю, что лет десять тому назад в местном публичном доме, в общем зале, ворковали в белой клетке египетские голуби и плясал на жердочке любимец проституток — завистливый чиж, но умной и гордой птицы, осилившей человеческую речь, никто еще в Булынчуге не догадывался показывать бесплатно падким до забавы людям! Карла Марфа Васильевна купила случайно: умер известный в городе одинокий старик — настройщик роялей, давно обрусевший француз, и булынчугские власти с торгов продавали его имущество.
У старика нашли много разных книг, мелко исписанные тетради-дневники, антикварные мелочи и — клетку с попугаем, на которой приколота была вырезанная лобзиком дощечка с надписью: «Домик Карла».
Карл понравился Марфе Васильевне, и она уплатила за него требуемые казной деньги. Сначала он тосковал и сидел молчаливо, подвернув голову под крыло, в своем «домике» и посетители кафе мало обращали на него внимания.
Но память у птицы — короче кошачьего зевка, и попугай скоро забыл старого настройщика роялей, научившего его человеческой речи, и дерзко и неожиданно всегда вбрасывал ее картавыми и горбатыми камешками в зыбь и гул разговоров посетителей кафе.
Иногда попугаевы слова были непонятны собравшимся здесь людям, потому что Карл, неизвестно что вспомнив из учения прежнего хозяина, выкрикивал вдруг какую-нибудь фразу на чуждом булынчужанам языке, и если присутствовала случайно при том бывшая полковничья дочь и жена -Марфа Васильевна, она с улыбкой поясняла:
— У!… Наш Карл заговорил по-французски…
Но сама Марфа Васильевна так же не понимала этого языка, как и неискушенные в знаниях булынчужане.
Она решила научить Карла чему-нибудь, что могло бы еще более оправдывать его пребывание в кафе, и вскоре попутай, получая кусочек сахара, орал два раза подряд на весь зал:
— Привет дорогим гостям «Марфы»…
Но успех попугая делили также и музыканты: булынчужане, кроме махорки и лесных складов, любили еще и музыку.
И как только зажигали в «Марфе» электричество, скрипач Турба вынимал из футляра свою скрипку и канифоль, натирал ею смычок с маленькой перламутровой запонкой у ручки, наклонял к скрипке — оттопыренным ухом вперед — узенькое и маленькое, как детская игрушка-колотушка, лицо и водил по ней, проверяя, налаженным смычком — заботливым хозяином четырех послушных струн.
Это означало, что пианистка и Исаак Моисеевич «должны приготовиться»: вместо неразговорчивого Турбы — говорил его смычок.
Исаак Моисеевич тоже вынимал из чехла свою виолончель, садился, расставив широко ноги, справа от пианино, тоже крякал своим смычком, а Елена Ивановна открывала крышку пианино и проверяла, все ли ноты принесла с собой.
Скрипач Турба — «старший» в этом маленьком оркестре: он устанавливает очередь в репертуаре, он играет вещи в зависимости от того, кто их будет слушать. Если за столиком много военных или парней с расстегнутым воротом и эмалевым значком на ситцевой рубахе, Турба, чтобы не сорвался голос, тихонько кивнет, подбросив на лоб черненькие скобки своих коротеньких игрушечных бровей:
— Красного генерала… Ну!