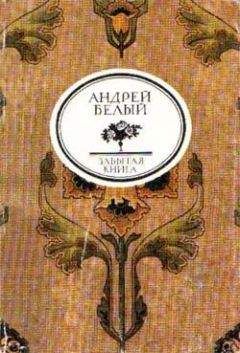Вот и задери-ка тут нос!
Люди степенные проживают в Целебееве: во-первых, Иван Степанов много годов лавку тут держит – красным товаром торгует; этому не перечь: живо сдерет с тебя шкуру, без штанов по миру пустит, жену обесчестит; а уж красного петуха ожидай; да и роду твоему и племени головушек не сносить; сродственникам, сватьям да зятьям сродственников влетит – и всё тут: богобоязненный 'мужик, сам за прилавком в церкви стоит, медяками позвякивает; из себя благолепный, борода лопатой, волосы в скобку, сапоги бутылками, с набором, со скрипом, всегда смазаны дегтем, при медных часах.
Во-вторых, поп, о. Вукол Голокрестовский, с попадьихой, знатный поп, в округе не встретишь такого попа, – объезди на сорок верст округу! – трудолюбивый поп, строгий, молитвенник.
А как выпьет это вина, сейчас попадьиху усадит на гитаре бренчать (настоящая у них гитара: как переехали в село лет восемь тому назад, так и гитару с собой привезла попадьиха; правда, гитара с порванной струной, да на то и попадьиха, чтобы на трех только струнах без стеснения тарарыкать – на то и три класса окончила попадьиха лиховской прогимназии!) – да: сажает попадьиху на гитаре играть: «Играй, Маша, персидский марш!» У самого лицо лоснится, желтыми пойдет веснушками, а все глазами в палисадник посверкивает: «Играй, Маша, житейское отложив попечение». А попадьиха в слезы: «Вы бы, отец Вукол, спать пошли». А пошел бы спать поп Голокрестовский, кабы не дьячок: на то и дьячок, чтобы попа подзуживать. Ну, вот и запрется: играй да играй. Плачет попадьиха и трынкает гитарой, а поп сейчас это в позицию: засучит рукава и воображает себе во утешение и дьячку в назидание взятие мощной крепости Карса [11]; воображает, пока есть мочь воображать, пока над церковным крестом не завизжат пронзительные стрижи, пока хладные капли, как гроздья прозрачных ягод, не повиснут на смородинных кустах поповского палисадника, пока огненный не раскидает закат над краем хаты красные бархаты; рыженькую бородку вздернет тогда на зарю о. Голокрестовский, кудрями потряхивает, ногами пристукивает, ладонями плавно то слева направо, то справа налево поводит: «Слушайте – бьет барабан: неприятельские войска переходят мост: зажарили пулеметы… Aга, примем к сведению!»
И в заре, на заре гитара «трынды, трынды» – заливается; заливается над гитарой попадьиха, соленые слезы глотает, а бросить гитары не смеет: за этим следит Александр Николаевич, дьячок; поп бы и не заметил, да Александр Николаевич сейчас ему и донесет; дьячок хоть и хмельной, а все помнит: сидит над рябиновкой, дергает рябиновым своим носом и дивуется на попа; а поп воображает: согнется в три погибели, голова в плечи уйдет и – шарк в кусты: что там делает, Бог весть, только по выходе из кустов он это крикнет: «Ура, наши победили!» (воображение имел поп). Как крикнет он «победили», так попадьиха гитару в сторону: знает, что больше не станет воображать о. Вукол: спать пойдет до утра; присмиреет и дьячок, и, затянув стих царя и псалмопевца Давида, бредет, пошатываясь, к дьячихе, где здоровая его ожидает таска. А поп, утром проснувшись, смирнехонько, сам сбегает в лавку к Ивану Степанову за мятными пряниками (пятнадцать копеек фунт) и угостит ими свою дебелую половину; тем дело и кончится.
И уж знает народ: как затрынкала в поповском смородиннике гитара, значит, поп захмелел и воображает взятие крепости Карса храбрым воякой и турок жестокое поражение; собираются в кусты: хорошо воображает поп; глазеют, лущат подсолнухи, хихикают, тискают девок, те визжат – и все врассыпную. Хорошо воображает поп: а в прочее время – ни-ни, чтобы что-нибудь такое: требовательный, исправный, хозяйственный; и с дьячка часто взыскивал.
Таков поп в Целебееве: славный поп, другого не сыщешь, другому не дойти до всего такого, ей-Богу, не дойти! Вот какое наше село, вот какие люди в нем проживают: славное село, славные люди!
Но не видано нигде, чтобы друг с другом в ладу жили славные соседи, чтобы равно величали они друг друга поклонами, лаской, подарками и прочей приязнью; этот тебе и шапку ломит, и спину согнет на богатство соседа, на его глянцевитые со скрипом сапоги, не потому, чтобы при случае не надел пиджачной пары, а любезности ради, а сосед: – нос задерет сосед, руки в карманы; и обидно: сердце горит, указывает обороняться: не фря ведь какая: сам у себя в избе хозяин иной в красном углу под образами сидит, не у чужого; так вот и начинает сосед соседу вредить, честь свою оберегая: непотребное слово на соседском заборе выведет, или соседскому псу бросит мясной кус с воткнутою иглою; пес подохнет – и вся тут, а соседи разойдутся, будут друг друга подсиживать да подпаливать, доносами изводить: глядишь – один другого пеплом развеет по ветру.
А с чего бы!
Еще диву давались, что крепко Ивана Степанова руку держал о. Голокрестовский; ну да и тот попа не выдаст, перед попом усмиряется, когда на попа смотрит, уж не молоньями его исходят глаза, а так они какие-то – рыбьи, мутные… Ублажали друг друга.
Бывало, как испечет попадьиха с капустой пирог, засылает просить Степаныча поп к ним пожаловать горяченького откушать, а то и сам засуетится: как печется пирог, приложением носа к корке все пробует, пропеклось ли тесто; потом сам выберет кусок пожирнее и с работником отошлет в Степанычеву лавку. Не оставался у попа в накладе и Иван Степаныч: засылал к попадьихе с гниловатым ситчиком (на баску), потчевал лежалыми леденцами в завитых бумажных обертках, сухими пряниками и прочими десертами; и сласти не переводились в поповском доме; и оттого гибель разводилось мух.
Немалое вспомоществование дал лавочник на церковный ремонт. Старинная была церковь; старой работы иконопись – строгие, черные, темные лики: и святитель Микола, и мудрейший язычник – Платоном звали, – и эфиопский святой с главою псиною, из арапов (видно, по Минеям [12] расписывали в старину) – хмурые, хмурые лики: просто глядеть невесело; вот как приехали богомазы из города, первым делом лики скоблить принялись – соскоблили, стену оштукатурили, по свежему грунту веселых, улыбчивых святых (помоднее, с манерами) расписали по примеру лиховского собора; куда стало поваднее! Да тут вышла история.
Надо вам сказать, что богомазам крепко запала мысль сорвать на харчи с крутого лавочника, а к тому никак не подойдешь: потому – лавочник; возьми, да и выведи под Ивана Степанова некоего мужа хитрые богомазы: в шуйце пятиглавую церковку держит муж на манер просфоры, а в карающей деснице [13] изволит подъять меч тяжелый и вострый – как есть Иван Степанов… только в парчах, с омофором [14], вокруг головы сусального золота круг с церковными буквами; и грозой грозят его очи, соблюдая дозор – совсем как у лавочника (особенно ежели замыслит лавочник пустить красного петуха под врага и супостата!). Да, вот еще: вздумали улыбаться? Коли взойти в храм, я вам сейчас этого и укажу мужа: по сию пору праведный муж с правой стороны от иконостаса разрисован (можете посмотреть). Ну, да и так поверите!
С той поры частенько простаивать стал у иконы службу Иван Степанов прихожанам для очевидности: смотрите, дескать, и сравнивайте: бывало, истово крестится, а сам посматривает по сторонам: сравнивают ли; а кругом шушуканье… Помещица Тюрина (было дело) приходит в Степанычеву лавку и улыбается; Уткин под Троицын день пришел, посмотрел эдак на Ивана Степановича сверху вниз, а потом снизу вверх, да и спросил его прямо: «Ну, что?» А тот так-таки прямо ему в ответ: «Да что: ничего – поскрипываем». Колченогий же столяр ходил, ходил в церковь, да и не стерпел – прямо к попу: «Так, мол, и так, батюшка, – срамота-то какая». Но поп и глазом не сморгнул: «А ты, – говорит, – еще докажи, что тут есть намеренное сходство, а не случайное совпадение ликов: Степаныч мужик богобоязный; может, он молится этому угоднику, ну и носит на лице молитвенника печать; да ты вовсе и не понимаешь, брат, сих, можно сказать, эмблематических начертаний; а кощунства никакого тут нет. Кабы и было, то согрешили богомазы; с богомазов и спрашивай; а запретить Степанычу под иконой стоять, посуди ты сам, не могу – мое ли дело: храм Божий для всех… А ты нишкни, да смирись: лучше о своих прегрешениях подумай»… Сплюнул столяр, и пошел от попа прочь.
Ворчала и учительница: «Безобразие, испакостили церковь». Но кто станет обращать на учительницыны слова? И какая такая она власть? Хорошо, если бы земский, волостной или кто иной, ежели, скажем, сам генерал Тодрабе-Граабен свое суждение на сей счет высказал, ну, тогда – другое дело; но волостной, сам кум Ивана Степанова, сам в лапы к нему попал давно; земский молчит, а генерала Тодрабе-Граабена никто никогда в храме нашем не видывал. А тут, изволите ли видеть, с какой-то Шкуренковой, учительницей, считайтесь; а посмотрите, какая такая она из себя: лицо зеленое-раззеленое, всегда лоснится, веснушчатое – щеголяет себе в розовеньких да лиловеньких кофтяшках.