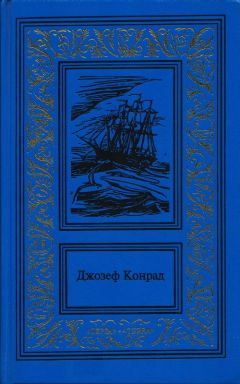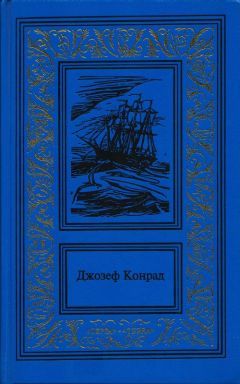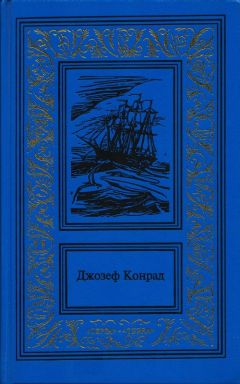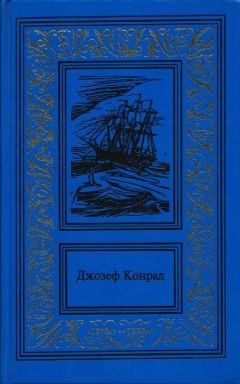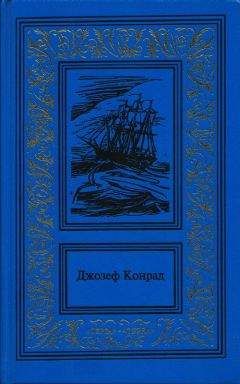Мистер Бэкер бесстрашно выступил вперед.
— Кто вы такой? Как вы смеете? — начал он.
Юнга, удивленный не меньше остальных, поднял фонарь к лицу незнакомца. Лицо было черное. Удивленный гул, слабый гул, в котором прозвучал точно в подавленном бормотанье слова «негр», пробежал по палубе и исчез в ночи. Негр, казалось, ничего не слышал. Он не двигался, ритмически покачиваясь на месте. Через минуту он спокойно произнес:
— Меня зовут Уэйт, Джемс Уэйт.
— О, — произнес мистер Бэкер. Затем, после нескольких секунд напряженного молчания, его раздражение прорвалось:
— А, вас зовут Уэйт? Что ж из этого? Что вам здесь нужно? Зачем вы явились сюда орать?
Негр был спокоен, хладнокровен, величав, великолепен. Люди подошли ближе и остановились позади него. Он был на пол головы выше самых высоких из них.
Он сказал:
— Я тоже принадлежу к этой команде.
Произношение у него было отчетливое, пожалуй, даже немного чересчур точное. Глубокие, несущиеся, раскатистые звуки его голоса без усилий заполняли палубу. В нем чувствовалось искреннее презрение ко всему окружающему и в то же время какая-то непринужденная снисходительность, точно он, созерцая с высоты своих шести футов и трех дюймов всю неизмеримость человеческого безумия, не желал чересчур жестоко осуждать его.
Негр продолжал:
— Капитан договорился со мной сегодня утром. Я никак не мог поспеть на борт раньше. Поднимаясь по сходням, я увидел на корме толпу и сразу догадался, что идет перекличка. Вот почему я назвал свое имя. Мне казалось, что оно должно стоять у вас в списке и что вы поймете меня. Вы меня не поняли.
Он остановился. Безрассудство, окружавшее его, было посрамлено. Он, как всегда, был прав и, как всегда, готов простить. Презрительные возгласы прекратились, и он спокойно стоял в кругу этих белых людей, тяжело дыша. Он высоко держал голову в ярком свете лампы, голову, мощно вылепленную из глубоких теней и ярких отблесков, голову сильную, неправильную, с уродливым сплющенным лицом. Это лицо было патетично и грубо, — оно являло собой трагическую, таинственную, отталкивающую маску души негра.
Мистер Бэкер рассматривал бумагу, близко придвинув ее к лицу.
— Да, так и есть. Ладно, Уэйт, отнесите свои вещи на бак, — сказал он.
Глаза негра вдруг дико завращались, так что стали видны одни белки. Он прижал руки к бокам и дважды закашлялся металлическим, гулким и потрясающе громким кашлем. Эти приступы кашля прозвучали словно два взрыва в погребе. Купол неба завибрировал от них, и железная броня больверка, казалось, зазвенела ему в унисон. Затем Уэйт вместе с остальными направился в переднюю часть. Офицеры, стоявшие в дверях каюты, слышали как он сказал: «Не поможет ли кто-нибудь из вас, товарищи, снести мои пожитки? У меня сундук и мешок». Слова эти, произнесенные ровным звучным голосом, раздались по всему судну; тон вопроса не допускал отказа. Короткое быстрое шлепанье людей, несущих что-то тяжелое, удалилось по направлению к баку, но высокая фигура негра продолжала маячить у главного люка в группе более мелких силуэтов. Снова послышалось, как он спросил: «А что повар у нас цветной джентльмен?» Затем разочарование и неодобрительное: — «А! Хм!» — в ответ на сообщение, что повар всего-навсего белый. Однако, когда они все вместе двинулись к баку, он снизошел до того, чтобы просунуть голову в дверь судовой кухни и проорать туда: «Добрый вечер, доктор», — голосом, от которого зазвенели все кастрюли. Повар дремал в полутьме на угольном ящике перед капитанским ужином. Он вскочил, как будто кто-нибудь его ударил хлыстом, и стремительно выбежал на палубу, но увидел только несколько спин, которые со смехом удалялись к баку. Рассказывая потом об этом плаваньи, он обычно говорил: «Бедный малый напугал меня. Мне почудилось, что в кухню заглянул сам дьявол».
Повар уже семь лет служил на судне при одном и том же капитане. Это был степенный человек, имевший жену и троих детей, в обществе которых он проводил в среднем не больше месяца в году. Но, живя на берегу, он неизменно по воскресеньям два раза ходил с семьей в церковь. На море он каждый вечер засыпал при горящей лампе, с трубкой во рту и открытой библией в руках. И каждую ночь кто-нибудь заходил к повару, тушил его лампу, вынимал книгу из его рук и трубку из его зубов.
— Потому что иначе, — говорил обыкновенно Бельфаст, — сердясь и жалуясь, — в одну прекрасную ночь ты, старый дуралей, проглотишь свою проклятую трубку, и мы останемся без повара.
— Ах, сынок, я готов предстать перед своим творцом, и хотел бы видеть вас такими же, — отвечал тот с блаженным спокойствием и нелепым и трогательным в одно и то же время.
Бельфаст за дверью кухни начинал приплясывать от досады.
— Ах ты, блаженный дуралей! Я не хочу, чтобы ты умирал, — вопил он, обращая к повару свирепое лицо с нежными глазами. — Чего ты торопишься, деревянная башка, старый греховодник? Черт и так достаточно скоро заполучит тебя. Подумай о нас… о нас… о нас!
И он уходил, топая ногами, отплевываясь, полный возмущения и тревоги; тогда как повар, выйдя из кухни с кастрюлей в руке, разгоряченный, перепачканный и безмятежно спокойный, провожал с улыбкой превосходства спину своего «маленького чудака», убегавшего в ярости. Они были большими друзьями.
Мистер Бэкер, прогуливаясь со вторым помощником у ахтер-люка, вдыхал влажный ночной воздух.
— Эти вест-индские негры бывают иногда удивительно статными и большими, особенно некоторые попадаются… уф! Этот, например, здоровенный мужчина, не так ли, мистер Крейтон? Славно работает должно быть. Э? Уф! Я, кажется, возьму его в свою вахту.
Второй помощник, красивый благовоспитанный молодой человек, с решительным лицом и великолепным сложением, спокойно ответил, что он, собственно, так и предполагал. В его тоне чувствовалась легкая горечь, которую мистер Бэкер ласково попытался устранить.
— Ну, ну, юноша, — сказал он, фыркая между словами. — Не будьте слишком жадны. Этот здоровенный финн все время плаванья был в вашей вахте. Я не хочу быть несправедливым. Можете взять себе этих двух молодых скандинавов, а я… уф… я за беру негра и этого… уф… этого нищего, ободранного малого в черном пальто… уф… я заставлю его… уф… вывернуться наиз нанку или… уф… я не буду Бэкером… уф, уф, уф! Он трижды свирепо фыркнул. У него была привычка фыркать таким обра зом между словами и в конце своих сентенций. Это было слан ное внушительное фырканье, которое прекрасно вязалось с его угрозами, грузной бычьей осанкой, подпрыгивающей быстрой походкой, крупным, покрытым рубцами, лицом, решительными глазами и сардоническим выражением рта. Но фырканье это давно уже перестало пугать его подчиненных. Они любили мистера Бэкера. Бельфаст (который был его любимцем и знал это) изображал его за его спиной, не особенно заботясь о том, чтобы это осталось в тайне. Чарли — с большей осторожностью — копировал его походку. Некоторые из выражений подшкипера утвердились и сделались обиходными словечками на баке. Большей популярности трудно достигнуть. К тому же вся команда в глубине души знала, что подшкипер при случае может «свернуть парню шею по всем правилам искусства, принятым в океане».
Теперь он отдавал последние приказания:
— Уф… эй, Ноульс! Соберите команду в четыре. Я хочу… уф… лечь в дрейф до того, как подойдет буксир. Следите, когда приедет капитан. Я пойду прилягу, не раздеваясь… уф… позовите меня, как только увидите лодку. Уф! уф!., у старика наверно найдется, что порассказать, когда он поднимется на борт, — заметил мистер Бэкер, обращаясь к Крейтону. — Ну, доброй ночи… уф… завтра нам предстоит трудный денек… уф… ступайте — ка лучше отдохнуть… уф… уф!
На темную палубу брызнул сноп света, затем дверь захлопнулась и мистер Бэкер очутился в своей уютной каюте. Молодой Крейтон продолжал стоять, перегнувшись через перила, мечтательно вглядываясь в восточную ночь. Он видел в ней длинную деревенскую тропинку, на которой шевелились тени листьев и плясали солнечные зайчики, видел движущиеся ветви, которые соединялись над дорожкой, образуя свод, и в их рамке нежную ласкающую синеву неба Англии. Девушка в светлом платье, улыбавшаяся под зонтиком в зелени арки, казалось, спустилась на дорожку прямо с ясного неба.
На другом конце корабля бак, освещенный теперь одной лампой, засыпал в тусклой пустоте, прорезаемой громким дыханием и отрывистыми короткими вздохами. Двойные ряды коек зияли чернотой, словно могилы, занятые беспокойными трупами. Кое-где полузадернутая занавеска из веселенького ситца указывала на то, что на койке спит сибарит. Чья-то нога, очень белая и безжизненная, свешивалась через край, чья-то вытянутая рука торчала наружу, с обращенной вверх ладонью и полузакрытыми толстыми пальцами. Два легких храпа, не сливаясь, спорили друг с другом в забавном диалоге. Сингльтон, раздевшись снова догола (старик сильно страдал от жары), охлаждал свою спину у порога бака, скрестив руки на обнаженной разукрашенной груди. Голова его касалась балки верхней палубы. Негр, наполовину раздетый, стлал себе на верхней койке постель. Его высокая фигура бесшумно двигалась в одних носках. Пара подтяжек, болтаясь сзади, била его по ногам. Донкин сидел на полу, в тени стоек и бушприта, и жадно жевал кусок сухого корабельного сухаря, поджав под себя ноги и беспокойно шмыгая глазами. Он держал сухарь всей пятерней и со свирепым видом вонзал в него свои челюсти. Между его раскоряченных ног сыпались крошки. Затем он встал.