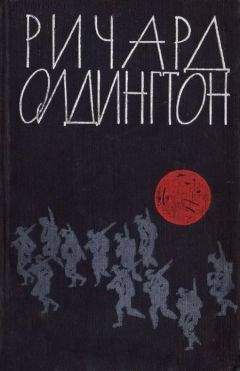Вечер и почти весь следующий день Камберленд провел в Неаполе в ожидании парохода. Больше всего поразил и заинтересовал его здесь маленький рынок на захудалой улице позади церкви Санта-Лючия. Такое буйство красок! Столько движения – жестикулируют, торгуются, кричат, трясут головой, машут руками, нехотя выкладывают никелевые монетки. И вся эта жизнь так естественно вливалась в оргию красок. На лотках груды сморщенного перца, то нежно-зеленого, то ярко-желтого или ослепительно красного, наваленного как попало, прямо из корзин. Дальше – крупный, сочный виноград, черный и золотой; роскошные крупные помидоры; матово-синие пузатые баклажаны; величественные тыквы, разрезанные пополам, чтобы видна была оранжевая сердцевина, и зеленые арбузы, тоже надрезанные, так что сверкала их густо-розовая мякоть, усеянная черными семечками.
Унося в душе эти краски и память о замечательном неаполитанском мороженом, Камберленд поднялся на большой торговый пароход, уходивший в Марсель. Еще не закончилась разгрузка. В режущем свете ничем не защищенных электрических ламп, в удушающей жаре и пыли обнаженные по пояс люди корзинами насыпали в мешки фасоль. Гремящая лебедка поднимала мешки и сваливала их в баржу. С грузчиков градом катился пот, и серая пыль налипала на тела и лица. Люди были мускулистые, но некрасивые, яркий пыльный свет искажал их фигуры, и работали они с остервенением и с натугой. Глядя на них, Камберленд испытывал жалость и возмущение. Над ними тоже тяготеет беспощадная угроза: деньги или голодная смерть. Этот ультиматум, подкрепленный фашистским револьвером, заставляет их работать так, как не может человек работать, не теряя человеческого облика. Лица у них были угрюмые, злые, изможденные.
Подошел старший помощник, подтянутый, в белоснежном кителе, и, желая щегольнуть своим английским языком, остановился возле Камберленда и сказал что-то о красоте ночи.
– Да, красиво, – отозвался Камберленд. – Мне не раз говорили, что восход луны над Везувием – чарующее зрелище, но такого я и не представлял себе. Скажите, неужели эти люди всегда должны вот так работать? Ведь это ужасно.
– Стоит ли беспокоиться! – сказал помощник, стряхивая пепел с сигары. – А что они такое? Лаццарони! Пусть работают.
Пароход выбрался из гавани и стал медленно пересекать залив, красоту которого человек не может убить никакими силами – даже снобистским брюзжанием. Мир, залитый лунным светом, был ясный, спокойный, призрачный. Высокая гора с клубящимся над нею дымком; цепочки и гроздья огней, вдали – Капри и полуостров Сорренто, а еще дальше, впереди – Позиллипо, Баньоли, Прочида, Искья. Все современное поглотили тени, и в мягком сиянии луны только скалы, горные вершины и острова да едва видные очертания городов пребывали в неподвластной времени красоте. Камберленд долго оставался один на палубе, после того как другие пассажиры – какие-то безликие левантинцы – разошлись по своим каютам. Старый пароход мягко и почти бесшумно резал неподвижную гладь моря. В залитом луною небе мерцали бледные звезды. Давно миновала полночь, когда усталость загнала наконец Камберленда в каюту.
Старый тихоход находился в пути двое с лишним суток – двое с лишним суток блаженного покоя в жизни Камберленда. Пленительные золотые рассветы над мерно вздымающимися синими волнами, долгие солнечные дни, ночи с луной и звездами, возникающие вдали мысы итальянского берега и контуры островов – все это размягчило его, расслабило годами не отпускавшее его напряжение. Он жил своим теперешним покоем, но при этом заново переживал, казалось, забытое прошлое. Жил не столько в постоянном раздумье, сколько в полной гармонии с окружавшей его красотой. И с удивлением отмечал, как живо прошлое встает в памяти и как по-новому он теперь о многом судит.
Вопрос «ради чего?», который часто задают себе люди после долгих лет упорного труда, неотступно преследовал его. Ради чего вся эта сумятица, и борьба, и потуги, навязанные ему миром людей, в котором он родился, когда другой мир – мир неба, моря и земли (в котором он ведь тоже родился!) – так степенен, великолепен, невозмутим? И ради чего остервенелый, подневольный труд неаполитанских грузчиков? Дешевая фасоль! Мозг его работал слишком вяло, чтобы четко сформулировать эту проблему. Он мысленно повторял: «Дешевая фасоль! Дешевая фасоль! Дешевые жизни, дешевые цели! А какая цель у меня?» И тут зазвонил гонг, призывающий к обеду.
На остров Камберленд добрался в моторной лодке. Тихая, синяя, переливающаяся на солнце бухта, где он высадился, была, казалось, не в Европе, а где-то в тропиках. На берегу стояли рыбачьи хижины с плоскими крышами и один розовато-желтый дом, каких много в Италии. В глубине бухты два низких домика, крытые черепицей, прятались среди пампасной травы, высоких камышей и эвкалиптов. Камберленд так и ожидал, что сейчас из дверей выйдут Поль и Виргиния,[5] a за ними негры, несущие на палках тяжелые узлы.
Вещи свои он оставил у рыбаков, договорившись, что их привезут на ослах, а сам, спросив дорогу, пошел пешком к вилле, расположенной на широком утесе, в шестистах футах над морем. Узкие каменистые тропинки бежали вверх сквозь бесконечные заросли. По сторонам высились перистые пинии, ярко-зеленые и свежие на фоне густо-синего моря. Запах сосновой смолы терялся в благоухании цветущего розмарина, пахнущей лимоном лаванды лобулярии, тмина, мирты и мастикового дерева. Весь остров был как большая чаша, полная тончайших духов Пятнистые ящерицы жарились на солнце и юрко мелькали под ногами. Цикады со звоном взлетали на голубых или ярко-красных крылышках. Шелестя крыльями, проносились большие бронзовые стрекозы. На пути встретилась рощица земляничных деревьев с гроздьями восковых цветов и круглыми ягодами – от лимонно-желтых и оранжевых до совсем спелых, красных» как земляника.
Друзья Изаксона предоставили ему полную свободу, и он много бродил по острову один, только купаться в уединенном заливчике каждый день спускался вместе со всеми. Маленькие волны, прозрачно-белые на бледном песке, дальше от берега сверкали зеленью и синевой. Он плыл не спеша, глядя вниз сквозь чистую как стекло воду, и видел под собой мохнатые водоросли, камни, морских ежей, морские анемоны, морские огурцы и оранжево-красные морские звезды. Порою бледно-серая, страшная каракатица воровато протягивала из расщелины в камнях свои хищные щупальца.
В саду виллы был высокий холм и на нем скамья. Оттуда открывался вид на пятьдесят миль побережья, изрезанного лесистыми ущельями, большими и малыми мысами, на голые горы, и на море с гористыми островами, которые лежали на его поверхности, как огромные отдыхающие животные. В ущельях кое-где поблескивала мозаика из крошечных белых и розовых кубиков – деревни. Горы по утрам были белые, днем розовые и золотые, в сумерках черно-синие. Окраска земли и моря что ни час менялась. Иногда далеко на горизонте он различал повисшие в воздухе бело-розовые снежные вершины…
Камберленд полюбил эту скамью. У нее была крестообразная спинка, которую он мог обхватить рукой, когда подолгу сидел там, впитывая красоту неба, моря и земли, всю эту непреходящую прелесть. Он и не знал, что в мире есть такая красота. Из вечера в вечер он сидел там в полной тишине, и жизнь волнами вливалась в. него. Он чувствовал, как его затягивает извечное бытие вселенной, игра таинственных сил. Словно ритм его жизни, годами разогнанный до рубленого стаккато, постепенно приходил в согласие с какой-то грандиозной симфонией. Он начинал смутно понимать, что жить означает не столько что-то делать, сколько чем-то быть. Не приобретение благ и удобств – этой пустой мишуры, а обретение себя и какой-нибудь достойной цели. Прожитые годы отодвинулись очень далеко. Долгая борьба за успех, которую они вели вместе с Изаксоном, теперь казалась никчемной, если не считать того, что она подвела его к этому открытию. Ценным здесь был не успех, а отношения с Изаксоном – дружба, товарищество. А годы войны, эти ужасные годы сплошной нестерпимой муки, – все зря, все зря! Какая жестокость человека к человеку, какое безумие и глупость! Беспощадная жестокость и глупость, пославшая одну половину Европы убивать другую (за что, боже правый, за что?), все еще. жива, все еще торжествует – свидетельством тому жестокая эксплуатация неаполитанских грузчиков…
Раскаленное багровое солнце опустилось рядом с темно-синим островом в прохладную синюю воду. Камберленд смотрел на небо, обхватив рукой крестообразную спинку скамьи. Эта его поза будила в нем какое-то смутное, но тяжелое воспоминание. В точно такой же позе он уже сидел когда-то в сумерках. Но где?
И внезапно вспомнил. Ну да, конечно! На Сомме, в октябре восемнадцатого года, ровно десять лет тому назад. Где же это было? Где-то северо-восточнее Бапома? Кажется, так? Да, да. Дивизионный лагерь отдыха после боев при Юлюке. На юг. С передовым отрядом на грузовике, а грузовик заблудился… да… только поздно вечером, отчаянно подскакивая на выбоинах, нащупали шоссе. В полной темноте грузовик вдруг остановился, и хриплый голос шофера сказал: