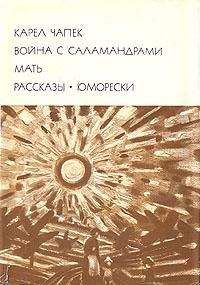Мы познакомились на уроке танцев; я оказалась первой, кого пан Фолтын пригласил танцевать. По сей день вижу, как он поклонился мне, неловкий и смущенный, пробормотал свое имя. По-моему, я тоже была крайне смущена, но надеюсь, что по мне это не было так заметно. Кстати сказать, танцевал он плохо; сделав несколько шагов, нахмурился и буркнул, что ненавидит танцы и не выносит, когда барабанят по роялю, и вдруг спросил: «Мадемуазель, а вы любите музыку?» В ту пору я терзала «Фортепьянную школу» Фибиха-Малата и ненавидела музыку всеми фибрами души; однако я не колеблясь заявила, что обожаю музыку больше всего на свете. Теперь я удивляюсь, отчего это молодежь так любит приврать. «О, тогда мы отлично поймем друг друга!» — пан Фолтын просиял, восхищенный, и наступил мне на ногу. В ту минуту он мне ужасно не нравился, может быть, потому, что я солгала; нос его показался мне слишком длинен, подбородок слишком мал, руки слишком велики, — все в нем мне было неприятно. Такой резкой неприязнью началась моя первая любовь; правда, до этого я по меньшей мере два раза была влюблена до смерти, но это не в счет. Воистину, первая любовь — это не просто влюбленность, увлечение, а сознание того, что ты нашел своего избранника.
Он провожал меня после уроков танцев, а иногда по вечерам мы ходили с ним гулять; прогулки эти были особенно увлекательны, потому что дома приходилось врать, что я иду пройтись с Маней или Элишкой. Теперь все по-другому, и моя дочь на мой вопрос спокойно сообщает, что просто идет с мальчиком.
Когда он, такой чинный, чуть подпрыгивая на ходу, шел со мной рядом и говорил рокочущим басом — я просто млела от счастья. Перед подружками я хвасталась: вот, дескать, подцепила «красавца семиклассника». Правда, за Маней ухаживал восьмиклассник, но у того не было таких длинных волос, да и вообще он был совсем неинтересный; Элишка однажды появилась даже с кадетом в полной форме, но он оказался ее двоюродным братом. Я очень гордилась тем, что Бэда артист; он признался мне, что он поэт и ведет тяжкую душевную борьбу, решая, чему посвятить всего себя — поэзии или музыке.
— Вы себе не представляете, Итка, — говорил он, резким движением головы откидывая назад свою шевелюру, — для меня это чрезвычайно тяжело. Что выбрали бы вы?
Мне всё было едино. В глубине души я и поэзию и музыку рассматривала просто как непременную часть общего образования; но, может, именно поэтому и то и другое мне ужасно импонировало.
— Послушайте, Бэда, — возразила я с серьезностью, на которую способен человек только в свои шестнадцать лет, — почему вам надо непременно от чего-то отказываться? Например… например, вы могли бы сами сочинять оперы и либретто… как Рихард Вагнер (Я немало гордилась тогда, что знаю это о Вагнере.). — Бэда зарделся от радости и — впервые в моей жизни — взял меня под руку; возможно, это произошло и потому, что мы были в дальнем конце аллеи (никогда прежде мы не заходили так далеко) и чувствовали себя будто в другом мире.
— Итка, — бормотал он, тронутый и восхищенный, — ни одна женщина не понимала меня, как вы.
А потом как-то так получилось, что он держит меня за локти и хочет поцеловать — но он так волновался, что поцелуй пришелся куда-то в нос. Но все это были мелочи, главное — это чувство гордости, что я понимаю такого гения, как Бэда Фолтын, и что состоялся первый поцелуй. Внезапное ощущение взрослости и такой триумф — не знаю, как это назвать. Потом я осознала его слова насчет того, что ни одна женщина его так не понимала, и начала разыгрывать сцену ревности, которой, собственно говоря, не испытывала. Я вырвала у него свою руку и пошла упрямо по другой стороне аллеи в молчании, которое должно было выглядеть загадочно.
Бэда был потрясен.
— Итка, — спрашивал он дрожащим голосом, — что с вами?
Я неумолимо смотрела прямо перед собой, надеясь, что в сумраке выгляжу трагически бледной.
— Бэда, — произнесла я тихо, — значит вас уже любила другая женщина?
Вымолвив это, я чуть не провалилась сквозь землю от стыда, щеки мои пылали. Боже, и как я могла такое сболтнуть! Ведь это выглядело признанием в любви — а мне так хотелось ни в чем не признаваться, пока он сам не начнет умолять меня. Впервые в жизни я назвала себя женщиной, и было в этом что-то странное и упоительное.
Бэда, кажется, не заметил моего замешательства, он опустил голову и провел рукой по волосам.
— Да, — сказал он глухо, — любила.
— Как ее звали?
— …Шимонка, — пробормотал он, поколебавшись.
«Разве есть такое имя — Шимонка?» — думала я про себя, но само имя показалось мне красивым, красивее, чем Итка.
— Вы любили ее… очень?
— Назовите это… страстью, — отвечал он, махнув рукой. — Итка, вы еще дитя… вам этого не понять…
— Я не дитя, — выпалила я, оскорбившись, и попыталась изобразить ревность к чему-то, что именуется «страсть». Думаю, что мне это не удалось, хотя я изо всех сил морщила лоб.
— Вы можете простить мне это? — смиренно пробормотал Бэда. Я молча сжала его руку. Глупый, ведь это потрясающе, что ты уже такой взрослый! Если бы это знали девочки, они были бы ошеломлены: Итка, правда? А какая была эта Шимонка? Ей было двадцать лет, сказала бы я им, и красивая была, как Мадонна Торичелли. То есть нет, Ботичелли, Торичелли — это какие-то трубки. Такая бледная загадочная красота. В те времена была в моде всякая загадочность, болезненность и тому подобные вещи; нынешние девочки не такие — крепенькие и прозаические, как репки в огороде, — и меня как мать это вполне устраивает. С того памятного вечера началась наша великая, безграничная любовь. Мы гуляли вместе по аллее вдоль реки, и наши души, как говорится; сливались, по мере того как наступали сумерки. А потом мне приходилось бежать сломя голову, чтобы вовремя поспеть домой, и врать, где я так долго бродила, — это было захватывающе! Я была влюблена в Бэду по уши, но любопытно, что мне было неприятно, когда он хотел взять меня за руку, под руку или украдкой поцеловать. Мне казалось, что у него холодные и слишком большие руки, и я чувствовала себя мучительно глупо, когда у него начинали гореть щеки и от волнения трясся подбородок. Боже ты мой, ужасалась я, подавляя хихиканье. Возможно, я даже испытывала к нему какое-то мучительное и нервозное сочувствие, — не знаю толком. Боже ты мой, сейчас он меня опять поцелует — и что он в этом находит? Лишь намного позднее я поняла, что в этом люди находят, но тогда я всячески старалась отвернуть лицо. Бэда неловко клевал меня холодным носом куда-то возле уха; ах, как мне хотелось вытереть лицо, когда это благополучно заканчивалось!
— Вы так холодны, — мямлил Бэда укоризненно, и я слегка стыдилась, что я такая холодная (Шимонка, конечно, была не такая), но в то же время видела в этом свою необыкновенную романтическую черту, которую и стремилась эксплуатировать как можно выгоднее, особенно перед девочками. Еще долго потом я верила, что я холодная и неприступная личность. Бог знает почему в юности так гордишься чертами своего характера — особенно теми, которые сам себе приписываешь.
И все же это была великая любовь. Я была счастлива и горда, что у меня уже есть свой мальчик, что он на целую голову выше меня, что он артист и поэт, что у него такие роскошные волосы и он говорит со мной так серьезно и так красиво. Я чувствовала себя очень счастливой, когда мы ходили с ним, а он говорил о музыке, о своих планах и о caмом себе. Он любил делиться со мной мыслями о том, что он называл судьбой артиста, ему, должно быть, причиняли огромные страдания его среда и школьные занятия, которые, как он выражался, душили его художественную свободу и мешали ему творить. В этом плане я полностью разделяла его мнение, во всяком случае, в том, что касалось непонимающей его среды и школы; мне тоже больше хотелось бы бегать с ним по цветущим лугам, свободной как птица, и не бояться мамы и экзаменов.
— Вы меня так понимаете, Итка! — восхищенно ахал Бэда.
О себе я ему не могла рассказать ничего такого, поэтому, затаив дыхание, слушала, как он говорил о своей душевной борьбе и творческих муках.
— Вы меня так вдохновляете! — признавался он иногда, и я была несказанно счастлива. Иногда он туманными намеками давал понять, что до того, как узнал меня, он вел ужасную, распутную жизнь.
— Понимаете, Итка, я необычайно страстная натура, — рычал он, сжимая кулаки. — Все артисты обладают чудовищным инстинктом и чувственностью.
Я думала тогда, что страстность — это когда у тебя краснеют уши и дрожат руки; в остальных отношениях Бэда со своими овечьими кудряшками и неумелыми руками напоминал мне скорее херувима. Не знаю, откуда это в девчонках берется, но только в моей любви к нему было что-то материнское — потребность успокаивать, и ободрять его, и восхищаться его гениальностью, чтобы доставить ему радость. Перед подружками я, конечно, хвасталась, какой Бэда страстный и что из-за меня он оставил свою распутную жизнь, от чего безумно страдает,-