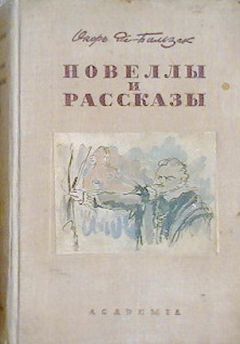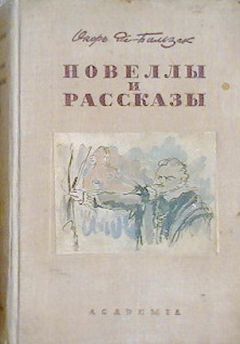— Это портрет, — сказал я. — Он принадлежит кисти Виена. Но этот великий художник никогда не видел оригинала, и ваш восторг, быть может, несколько ослабеет, когда вы узнаете, что моделью для этого тела служила статуя женщины.
— Но кто же это?
Я заколебался.
— Я хочу знать, кто это! — повторила она настойчиво.
— Мне кажется, — сказал я, — что этот... Адонис изображает... одного из родственников госпожи де Ланти.
Я с болью увидел, что она снова погрузилась в созерцание прекрасного образа. Затем она молча опустилась на диван, я подсел к ней, взял ее за руку, но она даже не заметила этого. Я был забыт из-за портрета!.. В эту минуту в тишине послышался легкий шум шагов и шорох женского платья, и мы увидели входившую в комнату Марианину, которой выражение невинности и чистоты придавало еще больше обаяния и блеска, чем красота и свежесть ее туалета. Она медленно продвигалась вперед, с материнской заботливостью и дочерней нежностью поддерживая разодетый призрак, из-за которого мы покинули концертный зал. Марианина вела его, с беспокойством оберегая каждый его неверный шаг. С трудом добрались они до небольшой двери, которая была скрыта за обивкой. Марианина тихонько постучала, и сразу же, словно по волшебству, в дверях появился высокий сухощавый человек, какое-то подобие доброго домашнего духа. Прежде, чем передать старца в руки этого таинственного стража, прелестная девушка почтительно прикоснулась губами к щеке этого ходячего трупа, и ее невинной ласке не была чужда в это мгновение та кокетливая нежность, тайна которой принадлежит лишь немногим, избранным женщинам.
— Addio, Addio![1] — проговорила она с самыми прелестными переливами своего юного голоса.
Последний слог она закончила руладой, исполненной с особым совершенством, но негромко, словно она желала в поэтической форме выразить порыв своего сердца. Старик, между тем, как будто внезапно пораженный каким-то воспоминанием, остановился на пороге таинственного убежища... И в тишине, царившей в комнате, мы услышали вдруг тяжелый вздох, вырвавшийся из его груди. Он стянул с пальца самый драгоценный из перстней, украшавших его костлявые руки, и опустил его в вырез платья Марианины. Юная кокетка, засмеявшись, вынула перстень и, надев его на палец поверх перчатки, поспешно направилась в зал, откуда доносились звуки прелюдии к кадрили.
Обернувшись, она заметила нас.
— Ах, вы были здесь? — воскликнула она, краснея.
И, поглядев нам в лицо, словно спрашивая нас о чем-то, она с беззаботностью, свойственной ее возрасту, бросилась искать своего кавалера.
— Что все это значит? — спросила, обращаясь ко мне, моя молодая спутница. — Неужели это ее муж? Мне кажется, что я брежу! Где я нахожусь?
— Вы, — ответил я, — вы, такая возвышенная женщина, так хорошо умеющая понимать самые утонченные ощущения, умеющая в сердце мужчины взрастить глубокое и нежное чувство и не оскорбить его, не разбить в первый же день, вы, умеющая сочувствовать сердечным мукам и соединяющая в себе одной остроумие парижанки и страстную душу женщины Италии или Испании...
Она поняла, что слова мои полны горькой иронии, но, словно не замечая этого, перебила меня:
— Оставьте! Вы пересоздаете меня по вашему вкусу. Странная тирания! Вы хотите, чтобы я не была сама собой.
— О, я ничего не хочу! — воскликнул я, испуганный строгим выражением ее лица. — Но признайтесь, по крайней мере, что вы любите слушать рассказы о бурных страстях, порожденных в наших сердцах восхитительными женщинами юга.
— Люблю. Ну и что же?
— Ну вот, я приду к вам завтра вечером около девяти часов и раскрою перед вами тайну этого дома.
— Нет! — воскликнула она капризно. — Я хочу, чтобы вы объяснили мне ее сейчас.
— Вы еще не дали мне права, — возразил я, — подчиняться вам, когда вы говорите «я хочу»...
— Сейчас, — ответила она с кокетством, способным довести до отчаяния, — я испытываю страстное желание узнать эту тайну. Завтра я, быть может, не захочу вас слушать...
Она улыбнулась, и мы расстались: она — как всегда гордая и своенравная, а я — такой же смешной, как всегда. Она имела смелость вальсировать с молодым адъютантом, а я поочередно бесился, дулся, восхищался, сгорал от любви и ревновал.
— До завтра! — сказала она мне около двух часов ночи, покидая бал.
«Я не приду! — подумал я. — Я покину тебя! Ты в тысячу раз капризнее, взбалмошнее, чем... чем мое воображение...»
На следующий день мы сидели рядом с ней вдвоем перед горящим камином в маленькой нарядной гостиной, она — на кушетке, а я — на подушках, почти у ее ног, глядя ей в глаза. На улице было тихо. Лампа отбрасывала мягкий свет. Это был один из тех чарующих вечеров, которые не забываются, — окутанные дымкой желания мирные часы, прелесть которых впоследствии вспоминается с тоской даже тогда, когда переживаешь более яркое счастье. Что может стереть с души живые следы первых порывов любви?..
— Начинайте, — сказала она. — Я слушаю.
— Я не решаюсь начать. В рассказе немало мест, опасных для рассказчика. Если я увлекусь, — остановите меня.
— Рассказывайте!
— Слушаюсь.
— Эрнест-Жан Сарразин был единственным сыном безансонского адвоката, — начал я после небольшой паузы. — Его отец довольно честным путем приобрел капитал, приносивший от шести до восьми тысяч ливров дохода в год, что для провинции, по тогдашним понятиям, являлось огромным состоянием. Старик Сарразин не жалел средств на то, чтобы дать своему единственному сыну хорошее образование, он надеялся видеть его со временем судьей и мечтал на старости лет дожить до того, что внук Матьё Сарразина, хлебопашца в Сен-Дие, усядется в кресло с государственным гербом и будет во славу парламента дремать на его заседаниях. Но провидение не даровало старому адвокату этой радости. Молодой Сарразин, отданный с малых лет на воспитание иезуитам, проявлял необычайную порывистость характера. Детство его напоминало детство многих людей, одаренных талантом. Заниматься он желал только по-своему, часто выходил из повиновения, иногда проводил долгие часы, погруженный в какие-то смутные думы, то наблюдая за играми своих товарищей, то представляя себе героев Гомера. Предаваясь забавам, он и в них проявлял необыкновенную пылкость. Если между ним и товарищем возникала борьба, то дело редко кончалось без пролития крови. Если он оказывался более слабым, то кусался. Сарразин бывал то подвижным, то вялым, кажущаяся тупость сменялась в нем чрезмерной восприимчивостью; его странный характер внушал страх как учителям, так и товарищам. Вместо того чтобы усваивать начатки греческого языка, он набрасывал портрет преподобного отца, объяснявшего отрывок из Фукидида, рисовал карикатуры на учителя математики, префекта, слуг, воспитателя и покрывал все стены какими-то несуразными рисунками. Вместо того чтобы во время церковной службы возносить хвалы Господу, он кромсал ножом скамейку или, когда ему удавалось стащить где-нибудь кусочек дерева, вырезывал из него изображение какой-нибудь святой. Если у него под рукой не оказывалось дерева, камня или карандаша, он воплощал свой замысел в хлебном мякише. Срисовывал ли он лица святых, изображенных на стенах часовни, рисовал ли сам, всегда и всюду он оставлял после себя грубые наброски, фривольный характер которых приводил в отчаяние более молодых монахов и, как уверяли злые языки, вызывал улыбку у старых иезуитов. Наконец, если верить школьной хронике, он был исключен из школы за то, что однажды, в страстную пятницу, ожидая своей очереди в исповедальне, вырезал из полена фигуру Христа. Неверие обнаруживалось в этом изображении так явно, что должно было навлечь на молодого художника тяжкую кару. В довершение всего, у него еще хватило дерзости поместить это циничное изваяние на алтаре!
Сарразин попытался найти в Париже убежище от грозившего ему отцовского проклятия. Руководимый сильной, не признающей преград волей и следуя влечению своего таланта, он поступил учеником в мастерскую Бушардона. Целые дни проводил он в работе, а по вечерам собирал милостыню, чтобы как-нибудь существовать. Бушардон, восхищенный успехами и умом своего ученика, вскоре проник в тайну тяжелой нужды, которую терпел молодой художник. Он постарался оказать юноше поддержку и, привязавшись к нему, стал обращаться с ним как с сыном. Зато потом, когда одаренность Сарразина открылась в произведении, в котором будущий талант еще боролся с юношеской неукротимостью, великодушный Бушардон постарался помирить его с отцом. Подчиняясь авторитету знаменитого скульптора, отец Сарразина сменил гнев на милость. Весь Безансон гордился тем, что послужил колыбелью будущей знаменитости. В порыве первых восторгов скупой адвокат, самолюбие которого было чрезвычайно польщено, постарался дать сыну материальную возможность с честью появляться в свете. В течение продолжительного времени тяжелая и неустанная работа — неотъемлемая часть искусства ваятеля — сдерживала необузданный характер и буйное дарование Сарразина. Бушардон, предвидя, с какой яростной силой должны когда-нибудь вспыхнуть страсти в этой молодой душе, пожалуй, такой же могучей, как душа Микеланджело, старался подавить их порывы неустанным трудом.