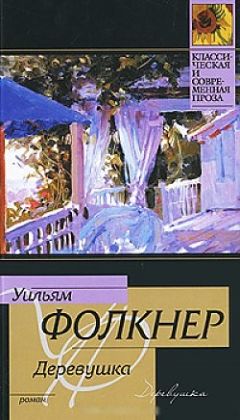Ознакомительная версия.
— Ладно, — сказал Рэтлиф. — Стало быть, пошли они по дороге, миссис Сноупс и вдова остались воевать с печкой, а обе девки так и стояли с проволочной крысоловкой и ночным горшком в руках; дошли они до усадьбы майора де Спейна и свернули по боковой дорожке, а на ней была куча свежего конского навозу, и тамошний черномазый сказал, что Эб нарочно наступил в самую середку. Может, этот черномазый подглядывал за ними через окно. Как бы там ни было, Эб наследил на крыльце и постучал, а когда черномазый велел ему вытереть ноги, Эб его оттолкнул и вошел, и черномазый говорит, что он вытер ноги прямо о стодолларовый ковер и стоит, орет: «Эй! Эй, де Спейн, здорово!» — и наконец пришла миссис де Спейн, поглядела на ковер и на Эба и вежливо так попросила его уйти. А потом сам де Спейн пришел домой к обеду, и, думается мне, миссис де Спейн, наверно, ему нажаловалась, потому что под вечер он прискакал на лошади к дому Эба и с ним черномазый на муле, а за спиной у черномазого свернутый ковер, а Эб сидел на стуле у дверей, и де Спейн заорал: «Какого дьявола вы не в поле?», а Эб ответил — встать он и не подумал, — что ему, мол, желательно начать завтра и что он никогда не делает почина в первый день, но только это уж статья особая. Наверно, миссис де Спейн все правильно ему нажаловалась, потому что он только и сказал, не слезая с лошади: «Черт бы вас побрал, Споупс, черт бы вас побрал!» — а Эб ему на это, не вставая: «Если б я так дрожал над своим ковром, то на вашем месте навряд ли положил бы его там, где всякий, кто войдет, беспременно на него наступит». — Рэтлиф и теперь не смеялся. Он сидел в фургончике легко и непринужденно, гладко выбритый, чистый, в безупречно чистой, хоть и вылинявшей рубашке, и его хитрые умные глаза спокойно смотрели со смуглого лица, голос звучал приветливо, неспешно и чуть шутливо, а сверху на него глядел побагровевший, надутый Уорнер. — Ну так вот, Эб посидел еще немного, а потом заорал в открытую дверь, выходит одна из этих дылд, и Эб ей говорит: «Возьми этот ковер и вымой». А на другое утро черномазый нашел на крыльце, под дверью, свернутый ковер, и на крыльце — опять следы, только теперь это была просто грязь, а миссис де Спейн, говорят, как развернула ковер, всыпала де Спейну еще почище прежнего — черномазый сказал, что похоже было, будто они заместо мыла оттерли ковер битым кирпичом, — потому что де Спейн еще до завтрака, натощак, примчался к Эбу на двор, а Эб с Флемом как раз запрягали, чтоб ехать в поле, и, не слезая с кобылы, злющий как шершень, давай крыть на чем свет стоит не то чтобы именно Эба, а вообще все ковры и весь навоз на свете, а Эб ему ни слова, знай себе подпруги затягивает да гужи прилаживает, а потом де Спейн говорит, что за ковер во Франции сто долларов плочено и что он взыщет за него с Эба двести бушелей из будущего урожая, а Эб еще и сеять-то не начинал. С тем де Спейн и уехал домой. И может, он бы понял, что все это без толку. Может, едва взявшись, сообразил бы, что дело это канительное, а миссис де Спейн помаленьку перестала бы его подзуживать, так что ко времени уборки он бы и думать забыл про эти двести бушелей. Но только Эбу этого было мало. И вот, кажется, назавтра под вечер, лежит майор у себя на дворе, разувшись, в гамаке из бочарной клепки, и заявляется к нему шериф,
— Сто чертей! — пробормотал Уорнер. — Сто чертей!
— Ну да, — сказал Рэтлиф. — Вот и де Спейн сказал примерно то же самое, когда наконец уразумел, что к чему. Приходит суббота, к лавке подкатывает фургон, и вылезает Эб в этой своей шляпе и сюртуке, как у проповедника, и ковыляет прямо к столу, припадая на хромую ногу, которую ему прострелил сам полковник Джон Сарторис, еще в войну, когда Эб хотел было свести у него гнедого жеребца, — это дядюшка Бэк Маккаслин рассказывал, — и судья ему говорит: «Я рассмотрел вашу жалобу, мистер Сноупс, но мне не удалось найти в законе ни слова насчет ковров, не говоря уж о навозе. И все же я готов принять вашу жалобу во внимание, потому что двести бушелей для вас слишком много, вам столько не уплатить, вы ведь человек слишком занятой и вырастить двести бушелей кукурузы у вас времени не хватит. А потому я постановил взыскать с вас за испорченный ковер десять бушелей».
— И тогда он поджег, — сказал Уорнер. — Так, так.
— Этого я бы, пожалуй, не сказал, — заметил Рэтлиф. — Я бы скорее сказал так: в ту самую ночь у майора де Спейна загорелась конюшня и сгорела дотла. Но только де Спейн каким-то образом оказался там в это самое время, один малый слышал, как он проскакал на своей кобыле по дороге. Я не говорю, что он поспел вовремя, чтобы погасить огонь, но зато поспел он в самое время, чтобы застать кое-кого из чужаков, кому нечего было околачиваться возле его конюшни, так что он взял да и выстрелил, выпалил, не слезая с седла, в него или в них три, а то и четыре раза, покуда чужак не юркнул у него перед самым носом в канаву, и гнаться за ним на лошади он уже не мог. И сказать, кто это был такой, он тоже не мог, потому как всякая тварь захромать может и никому не возбраняется иметь белую рубашку, но только вот когда он прискакал к дому Эба (а он это сделал мигом, потому что тот малый своими ушами слышал, он мчался как бешеный), Эба и Флема там не было, и вообще никого там не оказалось, кроме четырех женщин, а шарить под кроватями или еще где де Спейну было некогда, потому что рядышком с конюшней стоял амбар под кипарисовой крышей. Вот он и поскакал назад, а там его черномазые таскают бочонками воду и мочат мешки, чтобы прикрыть крышу амбара, и первый, кого де Спейн увидел, был Флем, он стоял в белой рубашке, засунув руки в карманы, смотрел и жевал табак. «Добрый вечер, — говорит Флем. — Сено-то как быстро прогорает», а де Спейн, сидя на лошади, заорал: «Где твой папаша? Где этот…» — а Флем ему: «Если его нету где-нибудь здесь, значит, он пошел назад домой. Мы с ним вместе вышли, как огонь увидели». А де Спейн знал, откуда они вышли и почему. Но все это было без толку, потому что, говорю вам, где угодно можно встретить двух мужчин, и чтобы один хромал, а на другом была белая рубашка. А еще де Спейну показалось, когда он выстрелил в первый раз, будто один из них плеснул в огонь керосином. И вот на другое утро сидит он и завтракает, а брови и волосы он себе порядком подпалил накануне, и вдруг входит черномазый и говорит, что какой-то человек его спрашивает, и он пошел в контору, а там Эб, уже в шляпе и сюртуке, и фургон уже снова нагружен, только Эб поставил его в стороне от дома, чтоб видно не было. «Похоже, что нам с вами никак не сладиться, — говорит Эб, — и, по мне, уж лучше сразу бросить это дело, покуда у нас не вышло какого недоразумения. Я уезжаю сегодня же утром». Де Спейн на это говорит: «А ваш контракт?» А Эб ему: «Я его расторг». А де Спейн все сидит на месте и повторяет: «Расторг, расторг», — а потом говорит: «Я бы расторг и его, и еще сотню других и швырнул бы их в ту конюшню, только бы узнать наверняка, в вас это или не в вас я стрелял прошлой ночью». А Эб ему: «Что ж, подайте на меня в суд, там разберутся. Сдается мне, мировые судьи у вас всегда решают в пользу истца».
— Сто чертей, — снова пробормотал Уорнер. — Сто чертей.
— Ну вот, Эб повернулся и пошел, припадая на ту ногу, что у него не гнется, пошел назад…
— И спалил дом арендатора, — сказал Уорнер.
— Да нет же. Может, он и обернулся и поглядел на дом, как говорится, с сожалением, когда отъезжал. Но только никаких пожаров больше не было. То есть в ту пору. Я не…
— Вон оно что, — сказал Уорнер. — Вы, значит, говорите, что когда де Спейн стал в него стрелять, он плеснул остаток керосина в огонь. Так-так. Он весь надулся, побагровел. — И надо же — изо всей округи я выбрал именно его, чтобы подписать контракт! — Он засмеялся. Вернее, стал произносить скороговоркой: «Ха, ха, ха», — но смеялся он только голосом, ртом, а лицо, глаза оставались серьезными. — Ну что ж, как ни приятно мне поболтать с вами, а надо ехать. Может, еще сумею уговорить его разойтись подобру-поздорову и отделаюсь каким-нибудь старым пустым сараем.
— Или в крайнем случае пустой конюшней, — крикнул Рэтлиф ему вслед.
А через час лошадь Уорнера вместе со своим седоком снова остановилась, на этот раз перед воротами, или, вернее, перед брешью в загородке из обвисшей, ржавой проволоки. Сами ворота, или то, что от них осталось, лежали, сорванные с петель, в стороне, и сквозь щели между трухлявыми планками густо пробилась трава, словно меж ребер забытого скелета. Уорнер тяжело дышал, но не оттого, что скакал галопом. Наоборот, подъезжая все ближе, так что уже можно было бы увидеть дым над трубой, если бы этот дым над нею был, он все больше сдерживал лошадь. Он остановился у отверстия в изгороди, и его даже пот прошиб, он тяжело сопел, глядя на покосившуюся, сгорбленную лачугу, немилосердно потрепанную непогодой и цветом похожую на старый улей, и на голый, ни деревца, ни травинки, двор, и мысль его работала лихорадочно и напряженно, как у человека, который подходит к неразорвавшемуся орудийному снаряду.
Ознакомительная версия.