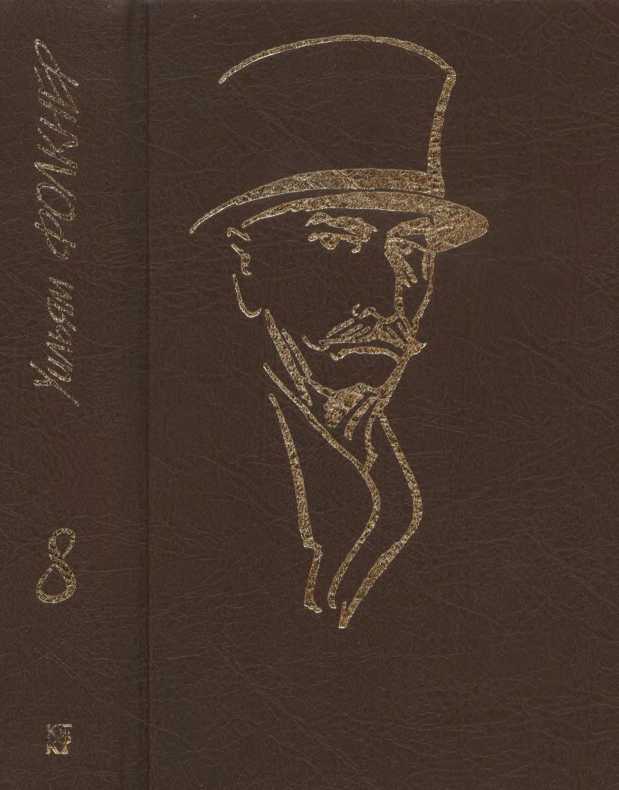от Маккэррона, глаз, казавшихся издали черными, как ее волосы, пока не становилось видно, что они синие, такие темно-синие, что казались почти фиолетовыми.
— Я думала… — сказала она. — Мне кто-то сказал, что Матт бросил работу, ушел, уехал вчера. Я подумала — может быть, вы…
— Конечно, — сказал я. — Я всегда рад тебя видеть, — и тут же удержался вовремя, чтобы не сказать: «Я ждал там на углу, до последнего звонка, ждал, что ты пройдешь, — хотя, по правде говоря, я удержался и не сказал: Встань! Уходи сейчас же отсюда! Зачем, ты сюда пришла? Разве ты не понимаешь, что я из-за этого все ночи не спал, с самой субботы?» — Но я только сказал, что купил коробку табаку и теперь надо найти кого-то, кто сможет или захочет его выкурить, и тут же, к слову, сказал: — У меня есть для тебя новая книжка. Я ее забыл принести утром, но днем я ее захвачу. После занятий я тебя буду ждать в кондитерской и угощу содовой с мороженым. А теперь беги, ты и так опоздала.
Я даже не выпускал двери из рук, так что мне только надо было ее открыть и надо было еще за ту минуту, пока она шла через комнату, успеть отбросить тысячу неистовых, торопливых сомнений [2]: спрятаться ли мне в кабинете, словно меня тут не было в это утро, и дать ей уйти одной; пойти ли за ней до лестницы и проводить вниз, ласково, как добрый дядюшка; проводить ли ее до самой школы, поглядеть ей вслед, пока она не скроется за дверью: мол, друг семьи спасает дитя своего соседа от явного прогула и отводит в лоно школы — друг семьи Флема Сноупса, у которого друзей было не больше, чем у Черной Бороды [3], или разбойника Пистоля [4], друг Юлы Уорнер, чьих друзей, ни один человек не назвал бы друзьями, как не назвал бы так друзей Мессалины [5] или Елены Прекрасной.
И тут я сделал все сразу: сначала задержался в кабинете, слишком долго, так что пришлось бежать за ней по лестнице, потом пошел с ней по улице, но не в таком отдалении, чтобы нас не заметили, не обратили внимания. После чего оставалось одно: подкупить моего племянника долларовой бумажкой и нагрузить книгой; не помню, какая была книга; наверно, я и не посмотрел.
— Хорошо, сэр! — сказал Чик. — Значит, так: после школы я ее встречаю в кондитерской Кристиана, даю ей книжку и говорю, что ты тоже постараешься прийти, но чтобы она не ждала. Да, еще угостить ее мороженым с содовой. А почему бы просто не отнести ей книжку в школу и зря не терять времени?
— Правильно, — сказал я. — А почему бы тебе не отдать мне этот доллар?
— И еще угостить ее мороженым? И платить все из того же доллара?
— Ладно, — сказал я. — Считай, что твоих тут двадцать пять центов. Если она захочет банановый пломбир, ты можешь выпить водички и заработать еще никель.
— Может, она просто выпьет кока-колы, — сказал он. — И я тоже выпью, а пятнадцать центов все равно останется.
— Тем лучше, — сказал я.
— А вдруг она ничего не захотит?
— Говорю тебе — тем лучше, — сказал я. — Только смотри, чтоб мама не услышала, как ты говоришь «захотит».
— Почему? — сказал он. — И папа и Рэтлиф всегда говорят «захотит» и ты тоже, когда разговариваешь с ними. А Рэтлиф еще говорит «хочут» вместо «хотят» и «волочь», а не «волочить», и ты сам так говоришь, когда разговариваешь с деревенскими, как Рэтлиф.
— А ты почем знаешь? — сказал я.
— Сам слышал. И Рэтлиф тоже.
— Как? Неужели ты его спрашивал?
— Нет, сэр, — сказал он. — Он сам мне рассказывал.
В ответ я, кажется, ему сказал: «Погоди, станешь взрослым, как Рэтлиф, как твой отец, как я, тогда сможешь разговаривать по-своему». Не помню. Но впоследствии, несколько месяцев подряд, я ловил себя на том, что делаю много такого, до чего он еще не дорос. Впрочем, сейчас это было неважно: сейчас оставалось только ждать назначенного часа: бесконечное ожидание, до половины четвертого, полное тысячи неразрешимых сомнений, постоянных мучительных противоречий. Понимаете? Она не только подбила меня назначить ей свидание, на котором я должен был сломать, загубить, разбить, уничтожить, убить что-то, она даже опередила меня своей простотой, своей прямотой.
И теперь мне оставалось только ждать. То есть ждать, пока время пройдет, прожить это время; можно было ждать и у окна кабинета, даже лучше, чем где-нибудь в другом месте, потому что из окна был виден вход в кондитерскую, так что надо было только набраться терпения. Нельзя было услышать звонок в конце занятий, для этого было слишком далеко, но можно было увидеть, как они все выходили: сначала малыши, разбегающийся поток перво— и второклассников, потом средние классы, шумные, шаловливые, особенно мальчики, потом старшеклассники, и среди них и выпускники, полные собственного достоинства, отчужденные в своей зрелости; вот и она, высокая (нет, не слишком высокая, но все же выше всех, как цапля на болоте, среди лягушат и головастиков), остановилась на какой-то миг у входа в кондитерскую, взглянула на пустую лестницу. Потом вошла, с тремя книгами в руках, и любая из них могла быть моей книгой, и я подумал: «Значит, он отдал ей книгу в школе, чертенок, обжулил меня еще на двадцать пять центов».
Но тут я увидел его, Чика; он тоже вошел в кондитерскую, с книгой в руках, и тут я подумал, что надо было бы мне догадаться налить стакан воды, медленно отсчитать, скажем, шестьдесят секунд, примерно то время, какое потребуется Скитсу Макгауну, продавцу содовой, чтобы он перестал заигрывать с какой-нибудь младше— или старшеклассницей и принял заказ, а потом выпить этот стакан воды, как они выпили кока-колу; но тут я подумал: «А вдруг она заказала пломбир, — может быть, еще есть время», — и уже полетел к выходу, уже распахнул двери, прежде, чем остановил себя: нельзя же все-таки, чтобы кто-нибудь увидал своими глазами, как прокурор штата бежит бегом по лестнице из своего служебного кабинета, через улицу в кондитерскую, где его ждет шестнадцатилетняя ученица выпускного класса.
Но я успел вовремя, только-только успел. Они еще не сели, а может быть, она уже встала и они оба стояли у стола, у нее в руках уже было четыре книги, и тут она взглянула на меня, только в этот последний миг, один раз, глазами, которые казались темно-серыми или синими, пока не всмотришься как следует.
— Прости, что я опоздал, —