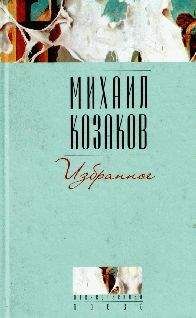бежать. На полпути весь полк был скошен. Для этого оказалось достаточным одного единственного пулемета. А теперь эта кирпичная стена совсем близко. То, что тогда представлялось нам огромным, бесконечным, оказалось теперь совсем крошечным. Я чувствовал себя как человек, неожиданно очутившийся на месте своих детских игр.
— Вот она, вот кирпичная стена! — повторял я.
— Что такое? —нервно спросила мадам Пражен. — Где был Клод?
Ее хриплый и недовольный голос вывел меня из оцепенения. Я мог разобраться в деталях, последовательно разместить их.
— Вначале он находился здесь...
... Это было ранним утром. Я вернулся из передового охранения, которое посылали по ту сторону леса. Моя часть вышла из того же леска, откуда позже появились немцы. Кирпичная стена была на полпути между лесом и окопами. Мы видели, как немцы шли по равнине. Весь наш полк выделялся синими и красными рядами. Каждый ряд, увидя перед собой опасность, стал делать попытки спрятаться, окопаться. Каждый стал ковырять своей лопаткой. Слишком поздно! Перед нами были лужайки и соломенные крыши. На лужайках находились коровы, покинутые бельгийскими крестьянами. На полях недавно скошенные хлеба стояли в стогах.
Мы — человек двенадцать или пятнадцать — провели всю ночь в передовом охранении и были очень взволнованы, увидав свой полк. Он был сурово озабочен тем, что предстояло, и неузнаваемо переменился. Мы догадывались, что близятся события. Какой-то конный африканский стрелок, внезапно появившийся на опушке леса, на всем скаку прокричал нам: «Вот они!»
Все же, проходя мимо дома лесного сторожа, мы нашли время спустить с цепи забытую собаку и захватить со стола банку варенья, оставленную в комнате.
Еще ничто пока не нарушало тишины.
Дойдя до окопов, я увидел Клода. Он стоял на коленях на только что разрытой земле, с пенсне на носу. В слабых, неловких руках он держал лопатку и смотрел, как работает солдат, состоявший при нем чем-то вроде денщика.
Он так и остался на коленях, с открытым ртом, бледный, обреченный, со съехавшим пенсне. Я прошел, и мы так и не успели ни поздороваться, ни попрощаться...
— Он был здесь! —с негодованием воскликнула мадам
Пражен.
Она негодовала так, будто понимала, что именно здесь произошло.
Взвод Клода занимал невыгодную позицию — слишком на виду, на самом гребне одного из многочисленных здесь холмов.
Мой же отряд, — как будто затем, чтобы теперь вызвать негодование мадам Пражен, — был укрыт в ложбинке. Здесь было так хорошо, — хотя бы даже во время перестрелки, — что бретонец Козик, например, ни за что не хотел уйти и так там и остался, даже когда все снялись. Это было поблизости от леса. Лес, откуда появились немцы, находился впереди. Он тянулся влево, а отчасти заходил и позади нас. Полк как бы прислонился к этому лесу. Но справа развертывалась гладкая равнина. Немцы продвигались вдоль большой дороги и тоже без прикрытия.
— А вы, вы-то где были?
— Вот здесь! —признался я.
Мадам Пражен не сказала ни слова, но бросила на меня взгляд, который говорил: «Я так и знала, что вам нельзя доверяться...»
— Клод был там. И его капитан тоже, — с достоинством сказал я.
— Капитан! Я достаточно насмотрелась на него в казарме. Это был дурак! Он мог бы разместить их в другом месте...
— Но ведь он и сам был с ними!
Капитан вышел из рядовых. Это был толстый человек с душой чиновника, с круглым животом на коротеньких и слабых ногах. У него было медно-красное лицо с жиденькими грязными усами, похожими на щетину, какой украшают деревянных лошадок. В это утро вид у него был не боевой. И очень просто: капитан мечтал в октябре выйти в отставку. Он был уничтожен первою волной.
Однажды, еще в казарме, я попросился у него в театр, на русский балет. Он сказал мне:
— Ах, это вы, студент? Незачем вам по театрам шляться. Разве я хожу в театр?
Как все выслужившиеся из рядовых, он презирал молодых буржуа с протекцией. А в полку их было несколько дюжин.
— Я мельком видел здесь Клода утром, часов в семь - в половине седьмого.
— Ну, а раньше вы его видели?
— Накануне, — лишь один миг. Потому что он уже был в бою.
— А вы?
— Нет.
Я объяснил ей положение, как умел. Мой взвод был назначен охранять полковой обоз, — сам не знаю, против кого. Но таким образом мы оставались в тылу, в то время как часть полка ввязалась в дело под Шарлеруа — да и то довольно вяло — и вскорости была тоже без потерь выведена из огня.
...Случилось так, что мы долгое время оставались на пустынной дороге, на вершине холма. Мы застряли, и я был доволен. Между тем еще так недавно пред этим, в Париже, мне до того не терпелось в ожидании битв, что я просил о скорейшем переводе хоть в алжирские стрелки, в Марокко.
Правда, я был доволен не тем, что избежал опасности, а тем, что имел возможность, ничего не делая, смотреть на происходящее.
С вершины холма я видел французскую армию, развернутую на равнине под обстрелом. Какой-то старый анекдот, давным-давно забытый и внезапно оживший, чтобы быть сурово уничтоженным! Эти войска, пестревшие синим и красным, напоминали батальные картины
середины прошлого века [1]. Армия устарела и имела растерянный вид. Она была уличена в беспечности и хвастовстве, но всё же пыталась проявить задор, хотя была весьма не уверена в своих силах. Генералы имели грустный вид. Их сопровождали кирасиры, как бы созданные, чтобы умереть где-нибудь под Рейшофеном [2]. Впереди не видно было ничего. Немцы сумели слиться с окружающей природой, что было не так глупо. Видел я еще согнувшегося на лошади артиллерийского майора в стареньком капюшоне, успевшего уже потерять свои батареи. Вспоминалось прочитанное у Маргерит и Золя. Все было похоже на пересмотренное и расширенное переиздание 1870 года. Я вспоминал пессимизм моего дедушки. Он видел Коммуну и не мог забыть Седана [3]. Я вспоминал хвастливый реваншизм моего отца. Я забыл, что и сам участвовал в факельных, шествиях Мильерана и Пуанкаре.
Вечером, когда я сидел на краю дороги, приехал кто-то. Это оказался Барбье, писарь полковника. Он привез приказы для обоза. Я поторопился к нему.
— Ну, как?
— Плохо!
— Вот как! Плохо?
Я и сам считал, что дела идут плохо. Это — дело характера, да, кроме того, с самого рождения я только и слышал, что дела у французов идут