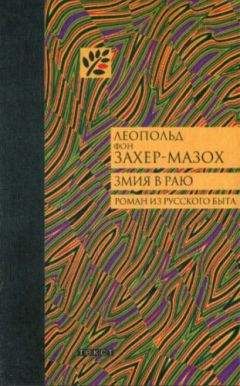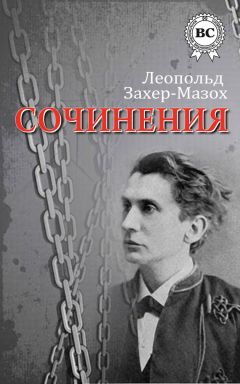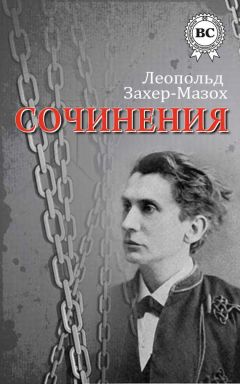— Для меня это серьезно, Алена, — пробормотал он. — Я люблю вас, люблю всем сердцем.
— Красивые слова.
— Я говорю правду, и если вы не можете быть добры ко мне, то лучше скажите сразу, не мучьте меня напрасно.
Алена посмотрела на него и потом опустила голову на нежно вздымающуюся грудь.
— Мне уйти?
Она не проронила ни слова.
— Вы меня ненавидите?
— Вовсе нет.
— Но ваше сердце, верно, принадлежит другому.
— И это не так.
Он медленно поднялся, привлек ее к себе и поцеловал, и она в этом поцелуе отдала ему всю свою бесхитростную и добрую душу.
— Однако вам не следует сюда приходить.
— Где же еще я могу вас увидеть?
— В Михайловке или у старушки Фабрицовой.
Феофан опустился перед ней на колено.
— К чему эта поза, — сказала Алена, — разве я молодая графиня? Будьте ж благоразумны.
Но поскольку он не хотел быть благоразумным, в ней внезапно проснулось все ее озорство. И прежде чем он догадался о ее намерении, она мазнула его кистью с золотой краской по носу. Нос теперь блестел, точно орех на рождественской елке, а Алена громко и по-детски непосредственно хохотала.
— Ну, хватит, — сказала она, насмеявшись, — у нас есть и другие вещи для золочения, кроме вашего носа. Помогите же мне. За дело!
Феофан подсел к столу и помог ей оклеить мхом и посыпать золотым песком сотворенные из мягкой бумаги горы, прикрепить звезду и ангела, который принес пастухам благую весть, расставить овец вокруг источника, сделанного из осколка зеркала, и эффектно расположить трех святых волхвов с их свитой, слонами и верблюдами.
— Вы уже успели что-нибудь прочитать из тех книг, которые я вам принес? — между делом спросил он.
— Да, я прочла первый том «Парижских тайн».
— И что вы по этому поводу скажете?
— Я полагаю, своими книгами вы совершенно вскружите мне голову.
Когда Февадия воротилась домой, Алена все еще сидела перед яслями, однако строгая правительница церковной усадьбы тотчас заметила, что ее племянница чем-то смущена.
— Здесь был кто-то? — начала она допрос.
— Никого.
— Почему же ты покраснела, когда я вошла?
— Не знаю.
— Или ты тайком лакомилась?
— Нет, я этого не делала.
Февадия обшарила карманы Алены.
— А ну-ка, встань, — сказала она наконец.
— Зачем же?
Алена затрепетала, но это не помогло. Могучим рывком Февадия приподняла ее и к своему изумлению обнаружила, что племянница сидела на книге.
— «Парижские тайны». Кто тебе это дал?
— Наталья.
— Гм, а где же первый том?
— Вот.
Алена достала и его.
— Это книга не для тебя, — решила Февадия и конфисковала роман. Но к тому моменту, когда попадья в большом белом чепце уже лежала в постели, любопытство пересилило-таки праведное негодование. Она взяла с ночного столика книгу и для начала принялась ее перелистывать.
— Что за сумасшедшие вещи пишут эти французы! — бормотала она. Однако «сумасшедшая вещь» мало-помалу, точно раскаленными щипцами, захватила ее — обычно такую хладнокровную и трезвую женщину. В конце концов, открыв первую страницу, она погрузилась в чтение. И читала до тех пор, пока бледный свет утренней зари сквозь занавески не проник в комнату.
На следующий вечер Феофан поджидал Алену в хате старушки Фабрицовой. Девушка ухаживала за бедной старушкой, когда у той поднималась температура, и, кроме того, при любой возможности чем-нибудь ее одаривала. Вполне естественно, что крестьянка, не имевшая ни мужа, ни детей, ни родственников, была слепо ей предана.
— Барышня вышивает у меня домашние туфли для господина священника, по случаю предстоящего Рождества, а сумочка для милостивой госпожи попадьи уже готова. Замечательно, когда знаешь толк в таком рукоделии! — со вздохом проговорила она и затем занялась своей кошкой.
А Феофан, исполненный приятного беспокойства, все выглядывал в маленькое оконце на улицу, пока не увидел Алену в длиннополом овчинном тулупе и в высоких мужских сапогах, пробирающуюся по глубоким сугробам в сторону хаты.
Любовь ли это? Ненависть?
Гете.
Фауст. Часть IIТак наступил сочельник с его строгим постом, предпраздничным беспокойством и торжественной просветленностью. С самого утра никто не брал в рот ни крошки, не выпил ни капли. А между тем на кухне жарили, варили и пекли так, словно поставили себе целью запастись съестным на неделю. Возникали исполинские пироги, намазанные вареньем мазурки,[49] внешне напоминающие шахматные доски, и высокие бабы — достойные подражания Вавилонской башне. Служанки, поминутно хихикая, чистили рыбу, крутили плюшки, забивали домашнюю птицу, обдирали дичь, и посреди этой кутерьмы как полководец стоял Адаминко.
Двоюродная бабушка сидела в кресле с высокой спинкой и молилась по своему древнему молитвеннику. Менев с помощью турецкой трубки превращал гостиную в преддверие ада. Аспазия, вытянувшись на диване, читала «Assommoir»[50] Золя, Наталья играла с Феофаном в шашки. Лидия спала, обняв мопса, Зиновия же сидела у окна спальни, сквозь морозные узоры на стеклах смотрела на раздольный белый ландшафт и размышляла. Она неспешно окинула внутренним взором свою прошлую жизнь, а затем подумала о будущем и о Сергее. На сердце у нее было тоскливо, чего с ней давно уже не случалось.
Время тянулось с томительной медлительностью. И все вздохнули с облегчением, когда солнце, в конце концов, утонуло в снегах и начало смеркаться. Теперь дамы занялись туалетами. Накануне Мотуш привез из окружного города четыре короба с таким же количеством новых вечерних платьев. Счета у торговца, у портного и у скорняка выросли до астрономических размеров, однако никто больше не тревожился по этому поводу, и такая же расточительность, такая же азиатская роскошь царили на кухне и в погребе.
Менев уже неоднократно забирал деньги из сберегательной кассы, но мало задумывался о последствиях; денег пока хватало, а следовательно, никаких причин для беспокойства и новых седых волос не было.
Наконец пробило пять. Был накрыт длинный стол, в серебряных канделябрах мирно горели свечи, и старинные часы проиграли «В этих священных покоях о мести не вспомнит никто». Повинуясь этому оракулу, Менев выбил трубку из красной глины, надел синий длиннополый сюртук с латунными пуговицами и повязал на шею белый платок.
Первые сани въехали во двор, в них сидели майор и Лепернир. Вскоре к крыльцу подкатили Сергей с Каролом, за ними — семья Черкавских в полном составе. За окном уже плясали первые снежинки. А когда появились женщины из семейства Менева, встреченные восхищенным возгласом Февадии, буря завыла во весь голос и началась ужасная вьюга. Белые непроглядные стены выросли вокруг дома. Еврейскому кучеру, который вез охваченного энтузиазмом финансового инспектора, лишь с неимоверным трудом удалось добраться до Михайловского поместья. Когда Винтерлих вошел в комнату, он был похож на покрытую мыльной пеной кисточку брадобрея.
Теперь все наконец были в сборе, все преломили облатки, и после этого Тарас мог приступить к разливанию дымящейся ухи. Гости и хозяева расселись по своим местам. Все выглядели серьезными, но довольными, и набросились на еду, точно голодные волки. Уха, плюшки с начинкой, яичница-болтунья исчезли в мгновение ока. И только карпы под коричневым польским изюмным соусом отчасти умиротворили желудки и души.
Теперь Аспазия остановила ласковый взгляд на кадете.
До этого момента пили сладкий рустер,[51] сейчас бокалы наполнились огненным эрлауэром.[52] Общество оживилось. Винтерлих заговорил о Шекспире, Зиновия взялась рассказывать о последних парижских модах на текущую зиму и о бальных платьях. Последовала жареная рыба с итальянским салатом — и окончательно взяла верх над остатками мрачных мыслей. Каждый почувствовал себя в своей тарелке.
Феофан под скатертью пожал ладошку Алене, которая бросила взгляд в сторону Февадии и, убедившись, что та не обращает на нее внимания, быстро обменялась с юношей бокалом и отпила с того края, которого только что касались Феофановы губы. Зиновия была в новом вечернем платье из блекло-желтого шелка, которое при каждом ее движении шелестело и переливалось. Время от времени она обращала лицо к Сергею и кивала или улыбалась ему. В этом немом диалоге угадывалась особая доверительность, отчего Наталью всякий раз будто пронизывал электрический разряд и кончики ее пальцев вздрагивали, как при ударе грома. Порой ей казалось, что она вот-вот расплачется, однако вместо слез в ее разгневанных голубых глазах и на пухлых губах возникал злой смех. Она откидывала голову и всем своим видом показывала, как безмерно радуют ее пылкие взгляды и льстивые речи майора.