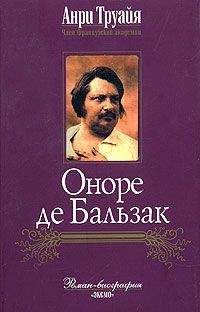— Да, но в четвертой доле и то лишь на словах, — ответил Клапарон. — Я уже совершил глупость, позволив ему увезти мои деньги; еще большей глупостью было бы сохранить за ним его долю в участках. Пусть пришлет сперва мои сто тысяч франков, да еще двести тысяч в уплату за свою долю, тогда поглядим! Но он и не подумает, конечно, вкладывать деньги в земельные участки, которые только через пять лет принесут свой первый урожай. Он, говорят, увез всего лишь триста тысяч франков, а ведь, чтобы жить прилично за границей, ему потребуется по меньшей мере пятнадцать тысяч франков годового дохода.
— Грабитель!
— Господи! Но Роген ведь дошел до этого под влиянием страсти, — заметил Клапарон. — Какой старик может поручиться, что устоит и не отдастся во власть своего последнего сумасшедшего увлечения? Никто из нас, благоразумных, не знает, чем он кончит. Последняя-то любовь и бывает безумной! Взгляните на всех этих Кардо, Камюзо, Матифа... Каждый из них обзавелся любовницей! Мы с вами влопались по собственной вине. Зачем мы доверились нотариусу, который занялся спекуляцией? Любой нотариус, любой биржевой маклер или комиссионер, пустившийся в аферы, уже подозрителен. Когда они объявляют себя несостоятельными — это ведь всегда злостное банкротство. Их бы следовало закатать в тюрьму, но они предпочитают укатить за границу. Это будет мне наукой. Право, мы слишком снисходительны, нам, видите ли, неудобно требовать заочного осуждения людей, у которых мы обедали, которые задавали нам балы, словом — людей светских. Никто не подает на них жалоб, — и напрасно!
— Совершенно напрасно, — подхватил Бирото, — закон о несостоятельности и банкротстве должен быть пересмотрен.
— Если я буду вам нужен, — обратился Леба к Цезарю, — я всегда к вашим услугам.
— Господин Бирото ни в ком не нуждается, — заявил неугомонный болтун, у которого дю Тийе открыл шлюзы. (Клапарон повторял урок, очень ловко подсказанный ему дю Тийе.) — Его дело ясно: ликвидация имущества Рогена, как утверждает молодой Кротта, даст кредиторам пятьдесят за сто. Господин Бирото получит сверх того сорок тысяч франков, которых не оказалось у его заимодавца; он может достать еще деньги и под залог своей недвижности. Нам придется внести двести тысяч франков продавцам земельных участков не раньше чем через четыре месяца. Господин Бирото расплатится до тех пор по своим векселям, — ведь для уплаты по ним он не должен был рассчитывать на то, что похитил Роген. А если господину Бирото и будет туговато... что ж, несколько удачных маневров — и он вывернется.
Услыхав, как Клапарон, разбираясь в его деле, приходит к определенным выводам и намечает за него план действий, парфюмер воспрянул духом. Он стал держать себя увереннее, тверже и возымел высокое мнение о способностях бывшего коммивояжера. Дю Тийе счел для себя выгодным прикинуться в глазах Клапарона жертвой Рогена. Он вручил Клапарону сто тысяч франков для передачи Рогену, а нотариус вернул их ему обратно. Обеспокоенный Клапарон был вполне искренен, когда твердил каждому встречному, что Роген нагрел его на сто тысяч франков. Дю Тийе не считал Клапарона вполне надежным человеком; полагая, что в нем сохранилось еще слишком много порядочности и чести, Фердинанд не хотел посвящать его полностью в свои планы; а что Клапарон не сумеет разгадать их, дю Тийе был уверен.
— Ежели наш первый друг не стал бы первой жертвой наших плутней, — где бы мы нашли вторую? — заявил Фердинанд в тот день, когда, выслушав упреки Клапарона, этого коммерческого сводника, он отшвырнул его, как отслужившее орудие.
Леба и Клапарон вышли вместе.
«Я могу еще выпутаться, — подумал Бирото. — Я должен по векселям, срок которым истекает, двести тридцать пять тысяч франков, семьдесят пять тысяч из них за дом и сто семьдесят пять тысяч за земельные участки. Чтобы расплатиться по этим векселям, у меня будет то, что я получу при ликвидации конторы Рогена, — возможно, до ста тысяч франков. Я могу добиться, чтобы ссуду под залог моих участков признали несостоявшейся — итак, всего сто сорок тысяч франков. Надо, стало быть, заработать на «Кефалическом масле» сто тысяч франков и дотянуть с помощью дружеских векселей или кредита у какого-нибудь банкира до того дня, когда мне удастся вернуть потери и когда земельные участки подскочат в цене».
Если человек путем более или менее правильных рассуждений сумеет создать себе в несчастье сладостную поэму надежды и если она станет изголовьем для его усталой головы, — иной раз он бывает спасен. Нередко люди принимают веру, порожденную иллюзиями, за проявление энергии. Надежда, быть может, — залог мужества; недаром же католическая религия возвела ее в добродетель. Разве надежда не служит поддержкой для слабых, помогая им дождаться счастливого случая? Бирото решил отправиться к дяде жены и рассказать ему о своих денежных затруднениях, прежде чем искать помощи у посторонних; дойдя по улице Сент-Оноре до улицы Бурдонне, он ощутил вдруг никогда еще не испытанную им жестокую боль в груди и подумал, что серьезно захворал. Внутри у него все горело. Люди, наделенные чувствительностью, ощущают боль в сердце, а те, кто воспринимает все умом, — страдают от головных болей. В зависимости от темперамента человека его организм в минуты сильных потрясений испытывает боль там, где находится его жизненный центр: у слабых бывают желудочные колики, на Наполеона нападала сонливость. Прежде чем пойти на приступ и завоевать чье-либо доверие, преодолев сперва преграды собственной гордости, люди чести не раз должны ощутить в своем сердце острые шпоры неумолимой наездницы — необходимости. Цезарь два дня терпел такое пришпоривание, прежде чем направился к дяде, да и то решился на этот шаг из родственных чувств: он как-никак обязан был рассказать о своем положении суровому торговцу скобяными товарами. И все же перед дверью Пильеро он почувствовал внезапную слабость, как ребенок у порога дантиста. Но трепетал он потому, что на карту была поставлена вся его жизнь, а не из страха перед минутной болью. Бирото медленно поднялся по лестнице. Он застал старика у камина за чтением «Конститюсьонеля»; около него стоял маленький круглый столик со скромным завтраком: булочкой, маслом, сыром бри и чашкой кофе.
— Вот истинный мудрец! — позавидовал Бирото спокойной жизни дяди.
— Ну, — сказал Пильеро, снимая очки, — я узнал вчера в кафе «Давид» об этой истории с Рогеном и об убийстве его любовницы, Прекрасной Голландки. Надеюсь, что после нашего разговора — ведь мы хотели стать фактическими владельцами земли — ты получил у Клапарона расписку?
— Увы, дяди! Вы бередите мою рану, в том-то и горе, что нет!
— Ах, проклятье! Значит, ты разорен! — воскликнул Пильеро, роняя газету, которую Бирото поспешил поднять, хотя эта газета была «Конститюсьонель».
Пильеро так был захвачен своими мыслями, что его строгое, точно из бронзы отлитое лицо приобрело чеканность медали: он слушал долгий рассказ Бирото, застыв в полной неподвижности, устремив сквозь окно невидящий взгляд на стену соседнего дома. Он слушал и судил, взвешивая, очевидно, все «за» и «против» с беспристрастием нового Миноса, который переплыл через Стикс коммерции, сменив набережную Морфондю на скромную квартирку в четвертом этаже.
— Так как же, дядя? — спросил Бирото, закончив свой рассказ просьбой продать на шестьдесят тысяч франков ренты и ожидая ответа.
— Увы, мой бедный племянник, я не могу этого сделать, ты слишком запутался. Рагоны и я, мы потеряем по пятьдесят тысяч франков каждый. Эти достойные люди, по моему совету, продали акции Ворчинских копей, и раз они понесут убыток, я считаю своим долгом если не вернуть им капитал, то хотя бы помочь им, помочь также своей племяннице и Цезарине. Всем вам, быть может, понадобится кусок хлеба, и вы его у меня найдете...
— Кусок хлеба, дядя?
— Да, да, кусок хлеба! Посмотри правде в глаза: тебе не выпутаться. Из пяти тысяч шестисот франков ренты я могу отдать четыре тысячи, поделив их между вами и Рагонами. Я хорошо знаю Констанс; коль скоро случилась беда, она будет работать не покладая рук, она во всем будет себе отказывать, да и ты тоже, Цезарь!
— Ведь не все еще пропало, дядя!
— Ну, я держусь другого мнения.
— Вы не правы, и я докажу вам это.
— Что ж, буду только рад.
Бирото ушел от дяди, ничего ему не ответив. Он приходил за утешением и за поддержкой, но получил еще один удар, на этот раз, правда, менее сокрушительный, но то был удар не в голову, а в сердце; а ведь в сердце была сосредоточена вся жизнь бедняги. Он спустился уже на несколько ступеней, но потом поднялся обратно.
— Сударь, — холодно сказал он Пильеро, — Констанс ни о чем не знает, сохраните, по крайней мере, все это в тайне. И попросите Рагонов не лишать меня домашнего покоя, — он необходим мне для борьбы с несчастьем.
Пильеро в знак согласия кивнул головой.